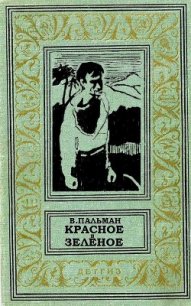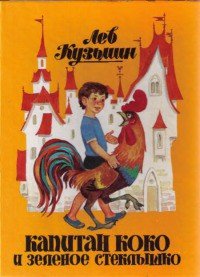Зелёное, красное, зелёное... (Повесть) - Огнев Владимир (читать книги онлайн полностью .txt) 📗
Но однажды, открыв книгу, которая всегда ждала ее в кресле, мама вынула из нее узкую полоску бумаги и порвала на мелкие кусочки. Гринько сломал кисть. Мама встала и позвала меня:
— Боречка, пойдем домой.
Когда мы открывали калитку, все время молчавший Гринько сказал маме дрожащим голосом:
— Я не хотел вас обидеть… Ради всего святого…
В этот вечер мама много смеялась.
На следующий день мама не пошла на сеанс, сказав папе, что портрет ей не нравится и нет смысла переводить время.
Через неделю мы уезжали в Орджоникидзе, а оттуда в расхваленную нам Анапу.
И накануне последний раз видели Гринько. Он принес картину, и папа все хотел дать ему денег, но художник отказывался. Он смотрел на маму голубыми глазами, и когда мы садились в бричку, снял соломенную шляпу и стал ею закрывать лицо. Я засмеялся, мне показалось, что он играет в прятки, но мама дала мне подзатыльник, и я осекся. На повороте я оглянулся: Гринько стоял все в такой же позе, закрыв лицо шляпой, но теперь мне почему-то не хотелось смеяться.
В Анапе мама наконец стала учительствовать — мы «осели на одном месте». Мамина школа была в старом особняке, который называли Генуэзским. Окна там были разноцветные и оттого пол в большом зале казался зеркалом калейдоскопа, а девочки и мальчики становились похожи на арлекинов. Я очень любил приходить к маме. Но учиться меня потом отдали в другую школу. Мама считала, что я не должен пользоваться преимуществами, то есть что там, где работает она, не должен учиться ее сын. А жаль.
Вообще мама воспитывала меня «жестко», как говорил папа. Он баловал меня, выполняя любую просьбу, вечно тискал меня и целовал. Честно говоря, мне это никогда не нравилось, и я даже зажмуривался и весь сжимался. Так как папа много ездил в командировки, даже при нашей оседлой жизни, каждый его приезд запоминался мне как праздник. Радовалась и мама, но она никогда не показывала виду. Обычно он приезжал рано утром или ночью, и первое, что говорило мне о приезде отца, — это запах табака. Я продирал глаза и улыбался: рядом с кроватью всегда лежал какой-нибудь подарок. Потом врывался папа и шумел, теребил меня, хохотал и куда-то вечно звал. Он минуты не мог посидеть дома, хотя каждый раз говорил, блаженно вытянув ноги в кресле:
— В гостях хорошо, а дома лучше. Все. Точка. Никуда не поеду.
Но никто на эти слова давно не обращал внимания.
Маму свою я любил всегда. Любил глубокой, спокойной и верной любовью. Даже если б перевернулся весь мир, ничего бы не изменилось. Она ничего не делала, чтобы снискать любовь. Она была строга и скупа на ласку. Но все, чем я наделен в жизни хорошим, — от нее. Она учила меня тем, что сама делала все, как надо. Справедливость, верность, честность, прямота, такт, отзывчивость были не отвлеченными категориями морали и нравственности, а нормой жизни. Так же, как нельзя утром не почистить зубы, нельзя было мне не помочь человеку, которому было трудно, или солгать товарищу, или переложить на кого-либо дело, которое я мог сделать сам. Я и сейчас не могу слышать, как близкие люди обсуждают, кому закрыть дверь, или подать вилку, или кто больше устал. Никогда, ни разу не слышал я от мамы упрека или жалобы. Она работала молча и очень много. И если я по эгоизму молодости порою привыкал к тому, к чему привыкать нельзя никогда — к тому, что мама работала слишком много и тяжело, — я не видел укора на ее лице, всегда просветленном, чистом и спокойном, как не видел слез отчаяния или растерянности. У нее была большая сила воли. И самоотверженность — главное материнское качество.
Сашина мама не меньше любила своего сына. Но злой эгоизм, месть мужу и его матери за неудавшуюся жизнь, за то, что ее душило чувство неполноценности, постоянная зависть к тем, кого она именовала «счастливчиками» и «богачами», хотя все богатство этих людей состояло в умении любить людей и делать добро, а потому и жить свободно и естественно, загнали человеческие чувства в душе тети Ганки так глубоко, что только один человек на свете, сын, понимал ее и не мог не простить.
С годами только я осознал сложность маминого отношения к отцу. Она очень любила его. Но папина легкость отношения к жизни, поспешная загораемость новыми идеями, нежелание учиться серьезно и сосредоточиться на главном деле всей жизни не могли не огорчать ее. Мама много читала, оригинально думала, ей были понятны сильные и прочные чувства, интересные и незаурядные люди. И свою постепенно нараставшую обиду на то, что папа не всегда хотел ее понять, торопился понять по-своему, то есть поверхностно, мама с годами превратила в ревность. Ей стало казаться, что папа просто мало любит ее. А он не мог любить иначе.
Долго, очевидно, шла эта невидимая миру борьба воль, стремлений, характеров, пока не настала очередь папе почуять что-то неладное, не совсем ладное в их отношениях. Он не мог не понять маминого превосходства. Мама была учительницей, она оставляла глубокий след: не одно поколение ее учеников вышло в люди — людьми… Ее знали и любили рыбаки и служащие, военные и колхозники, матери, деды и братья ее бывших учеников. Папа к старости растерянно увидел, что вокруг него все осыпается: авторитет удачливого организатора, здорового и веселого мужчины, которому все давалось легко; слава оригинального рационализатора и экспериментатора, о котором ходили легенды; человека, умевшего очаровывать подчиненных, щедрого, расточительного, широкого человека. Он нервничал, не понимал сам, чего хочет.
Когда я приехал в Анапу после войны, мы пошли с ним на Высокий берег. К маяку. Город еще не совсем отстроился, и вечером казалось, что мы идем по незнакомому месту, хотя все угадывалось, все было полно щемящим смыслом.
В тишине ранней осени была какая-то грустная прелесть. Акации туманно желтели в сумерках. Мы шли по нашей старой улице, и стук шагов раздавался особенно одиноко.
— Слышишь, папа? — спросил я, уже угадывая море.
— Слышу, сынок, — тихо отозвался отец. — И очень он тебе мешает?
Я горько усмехнулся. Да, протез. Конечно, он скрипит довольно противно. Как же я забыл? Все повторялось. Но теперь спрашивал о море я. А отец уже не думал о нем. И мне вдруг стало очень жаль отца — доброго, сердечного, щедрого.
Маяк был новенький, глазастый, как стрекоза. И никакого чуда не было. Море лежало спокойное и равнодушное.
Я внимательно посмотрел на отца. Он стоял сгорбленный, седой, неподвижный. Я спросил неожиданно для самого себя:
— Почему ты плакал тогда?
Он удивленно посмотрел на меня. И ничего не ответил. В море боролся с волнами мальчишка. Он плыл к берегу, но его относило. Мальчишка хохотал. Отец махнул рукой и весело сказал:
— Выплывет! — Потом повернулся ко мне: —Ты о чем-то меня спрашивал?
— Мы приехали из Сочи. Ты повел меня сюда, к маяку. Был шторм. Я был маленький, но помню — ты плакал…
Отец подумал и ответил внятно и спокойно, даже чересчур спокойно:
— В Сочи был художник, бедный, неудачник какой-то. Он мне казался жалким. Я смеялся над ним. Он написал мамин портрет. Мазня. Я думал, и мама не относится серьезно к нему. Но по дороге она сказала, что… что он одержимый человек, что только такие люди умеют любить. И что счастье этой оставленной девушки, что ее так любили. Меня это огорошило тогда, понимаешь?
— Понимаю, — еле слышно говорю я.
Если бы он знал, как много я теперь понимаю! Не дай ему бог узнать!
ГОРЬКОЕ ВИНО, ИЛИ КАК СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ
Анапа. 1945 год. Я уже два дня на родине. Обхожу стороною улицу, где стоит маленькая дачка Ивановых. Лето. Тетя Лиза, старенькая — глаза на мокром месте, рассказывает мне, как немцы угнали в Германию дядю Мишу, как румыны унесли на полотенцах пианино, как их загнали наши в море, когда наступали, и как они, несколько сотен, стояли по колено в воде на пляже, под солнцем, с поднятыми руками и кричали, что они сдаются, сдаются…
Она сохранила письма генерала авиации Башьяна, который «жив-здоров», чего и мне желает и зовет «в прекрасный Ереван, который весь розовый от розового туфа новых кварталов»; она записала для меня адреса моих друзей по авиаполку, с которыми я воевал; она порадовала меня, что младший Бойко, бывший санитар, работает вторым секретарем райкома партии…