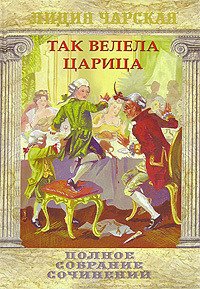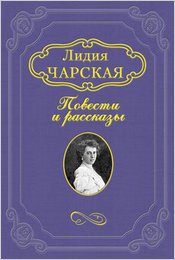Приютки - Чарская Лидия Алексеевна (читаем книги бесплатно txt) 📗
И снова громкое рыдание огласило залу.
Теперь надзирательницы и старшие воспитанницы покинули свои места и теснились вокруг Они… Кто-то поднял ее, поставил на ноги… Кто-то подал носовой платок… Кто-то утер ей слезы…
Екатерина Ивановна колебалась минуту… Потом, щурясь по своему обыкновению и тщетно стараясь подавить охватившее ее волнение, произнесла не совсем спокойным голосом:
— Румянцева! Ты слышала, что говорит Оня Лихарева… Ответь, правда ли это? Нечаянно задел Павлу Артемьевну твой клубок или нет?
Наташа с косынкой, сдвинутой почти по самые брови, выступила вперед.
Под белым коленкоровым платком черные глаза казались еще чернее. Они были тусклы и угрюмы; в осунувшемся за одни сутки лице лежало мрачное выражение. Она молчала.
— Ну, что же! Отвечай, когда тебя спрашивают! — строже произнесла начальница.
Наташа не произносила ни слова.
— Ну же!
Тяжело дыша, Наташа потупила глаза и угрюмо смотрела на желтые квадратики паркета.
— Несносная, упрямая девчонка! — вспылила Екатерина Ивановна. — Ее действительно следует примерно наказать!
Черные ресницы девочки поднялись в ту же минуту, и глаза усталым, тусклым взглядом посмотрели в лицо начальницы. "Ах, делайте со мной, что хотите, мне все равно!" — казалось, говорил этот взгляд.
Вошла Фаина Михайловна; в одной руке ее были ножницы, в другой машинка для стрижки волос.
Пришедшая следом за нею Варварушка молча выдвинула стул на середину залы.
— Садись! — кратко приказала Нарукова девочке.
На добродушном старом лице Фаины Михайловны застыло недоумевающее испуганное выражение. Она любила всех приютских воспитанниц, а эту живую, чернокудрую девочку, такую непосредственную, исключительную и оригинальную, такую яркую в ее индивидуальности, эту полюбила она больше остальных.
— Что ж это ты, девонька? Чем проштрафилась, а? — зашептала она у уха апатично, с тем же усталым видом опустившейся на стул Наташи. — Попроси прощения хорошенько! Прощения, говорю, попроси… Извинись перед Екатериной Ивановной да Павлой Артемьевной. Ведь волосы-то роскошь какая у тебя! Когда они еще отрастут-то! Ведь лишиться таких-то, поди, жалко! Попроси же, девонька, авось и простит Екатерина Ивановна. Ведь она у нас — сама доброта. Ангел, а не человек!.. Ну-ка…
Но на все уговоры доброй старушки Наташа ответила лишь тем же равнодушным взглядом, безучастным взглядом и шепнула:
— Я просить прощения не стану. Я не виновата, — произнесла она, чуть слышно, но твердо.
— Нехорошо! Ай, нехорошо это, девонька. Гордыня это! Господь не любит! Смирись! Смирись… слышишь, деточ…
Фаина Михайловна не договорила.
— Приступите! — прервал ее громкий голос начальницы.
Все еще медля и надеясь на отмену решения, добрая старушка тихим движением руки коснулась косынки, прикрывавшей Наташину голову, и так же медленно сняла ее.
— А-а-а-а!
Возглас удивления и испуга пронесся по зале. Странное зрелище представилось глазам присутствующих.
Вместо пышных черных кудрей, собранных небрежно в узел и окружавших обычно до сих пор тонкое лицо девочки, и начальство, и воспитанницы увидели коротко, безобразно, неуклюжими уступами выстриженную наголо голову, круглую, как шар.
От прежней Наташи, темнокудрой и поэтичной, не оставалось и следа.
Огромные черные глаза, занимавшие теперь чуть ли не целую треть лица, смотрели все так же тускло и устало, а следы безобразной стрижки несказанно уродовали это до сих пор прелестное в своей неправильности личико. Теперь оно выглядело ужасно. Бледное-бледное, без тени румянца. Губы сжатые и запекшиеся. Заострившиеся, словно от болезни, черты… И в них полная, абсолютная апатия и усталость.
Наташа сидела, не двигаясь, на своем стуле, в то время как несколько десятков испуганных и любопытных глаз впивались в нее.
Впечатление получилось столь неожиданное, что в первую минуту никто не мог произнести ни слова.
Молчание длилось мгновенье, другое…
— Она осмелилась остричься сама, без спросу! — прогремел наконец на всю залу негодующий голос Павлы Артемьевны.
— Как? Что такое? — Близорукие глаза начальницы силились тщетно рассмотреть что-либо.
С непривычной ей живостью она сделала несколько шагов к наказанной и наконец, только у самого стула разглядев выстриженную наголо и обезображенную неверной детской рукой голову, вспыхнула от неожиданности и гнева.
— Ты осмелилась? Ты!
К бледным щекам начальницы прилила краска. Обычно доброе, мягкое сердце закипело…
— Как посмела ты? Встань!
И так как девочка с круглой, как тыква, головой все еще оставалась неподвижной на своем стуле, Екатерина Ивановна еще раз повторила, уже явно дрожащим от гнева голосом:
— Встань… Перед начальством не полагается сидеть… Сейчас же вставай! Сию минуту.
Тусклым свинцовым взглядом Наташа посмотрела на говорившую… Потом приподнялась немного и с внезапно помертвевшим лицом снова откинулась на спинку стула.
— Мне дурно! Голова кружится! — чуть слышно проронили дрогнувшие губы.
— Что с нею?
Екатерина Ивановна живо наклонилась к девочке, с недоумением и тревогой заглянула в лицо воспитанницы.
— Да она совсем больна! Ее в лазарет отправить необходимо!.. — послышался знакомый каждому в приюте голос тети Лели, и маленькая фигурка горбуньи живо наклонилась в свою очередь над Наташей, в то время как желтая, сухая рука озабоченно в один миг ощупала ей лицо, шею и руки.
— У нее жар… Это бесспорно… Бедное дитя! Павла Артемьевна, Фаина Михайловна, помогите мне поднять девочку и отнести ее на кровать!
И тетя Леля первая приняла в свои объятия тонкие плечи почти бесчувственной Наташи. Вместе с Фаиной Михайловной и напуганной Павлой Артемьевной они понесли ее к двери, а за ними, не отрываясь, следили два голубых испуганных детских глаза. И побледневшее от затаенной муки личико Дуни обратилось к Дорушке:
— Дорушка… милая… скажи! Она не умрет? — чуть слышный прозвучал шепот девочки.
Спокойные глазки Дорушки взглянули на ее подругу.
— Не знаю… как и сказать тебе, право… Даст господь, и пустяки все это… А может статься, и плохо придется ей, Наташе… И впрямь плохо…
— Что ж, — вмешалась в разговор маленькая сухонькая с пергаментным лицом «примерница» Соня Кузьменко, и на ее острых от худобы скулах выступили два ярких пятна, — что ж, девицы, ежели помрет — так ей же лучше. Хорошо помереть в отрочестве… Прямо к престолу господню ангелом-херувимом взлетишь, безгрешным! Так-то оно!
При этих словах Дуня сделалась белее ее белой головной косынки.
Сейчас ее незлобливое сердце готово ненавидеть эту сухую, безжалостную, по ее Дуниному мнению, Соню; ненавидеть ее скуластое лицо, редкие желтые зубы; маленькие умные и покорные глазки "примерницы".
— Нет, она будет жива, Наташенька! Она должна жить, милая! — шепчет с несвойственной ей стойкостью Дуня и жмется к Дорушке, как бы ища в ней поддержки.
В то же утро оповещенный начальницей, раньше назначенного часа доктор Николай Николаевич прискакал ради Наташи в приют.
Но девочка уже никого не узнавала. Она металась в жару… Звала покойных благодетелей… Просила взять ее из приюта… Кому-то грозила… Кому-то сулила убежать.
А к вечеру принеслась зловещей черной птицей страшная весть из лазарета.
У Наташи Румянцевой открылось воспаление.
Простудилась ли, бегая босая после бани в предыдущую ночь, девочка, или тяжелые впечатления, пережитые ею за последнее время, и резкая перемена обстановки отразились на ней и потрясли хрупкий организм изнеженного подростка, но факт был налицо: Наташа умирала.
Со страхом прислушивались приютки к каждой новой вести, доходившей к ним из лазарета.
— У Наташи температура поднялась до сорока… Наташа бредила всю ночь наказанием… Наташа в забытьи зовет Дуню… — то и дело переходило шепотом из уст в уста.
Сама Дуня едва держалась на ногах от переживаемого страха за жизнь подруги… Она раздала среднеотделенкам срезанные ею в ту роковую ночь темные, пушистые локоны больной, спрятала оставленный ею себе самый пышный и крупный, положила его на сердце за ситцевый лиф и рыдала над ним, не осушая слез, целыми часами. Иногда ночью она прокрадывалась к постели Сони Кузьменко, "приютской подвижницы", как ее называли частью в насмешку, частью из зависти к ее религиозности другие воспитанницы, и, разбудив спящую девочку, трогательно умоляла ее помолиться о здравии болящей отроковицы Наталии. Никому никогда не отказывавшая в своем религиозном усердии, Соня, худая, сутуловатая, босая, в одной рубашке, голыми коленями становилась на холодном полу спальной и, приказав Дуне следовать ее примеру, исступленным от молитвенного экстаза голосом, ударяя рукою в грудь, шептала вдохновенно слова всех молитв, которые только знала.