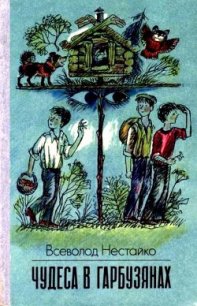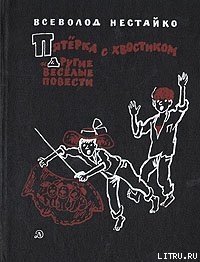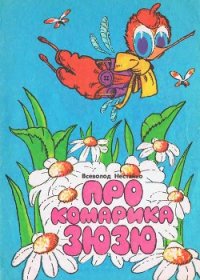Тайна трех неизвестных (с илл.) - Нестайко Всеволод Зиновьевич (читать книги без регистрации .TXT) 📗
Третьим выступит Карафолька и прочтет… стихотворение. Собственного изготовления. Это было для всех нас страшной неожиданностью. У нас и мысли никогда не было, что Карафолька может слагать стихи. И вдруг…
Творил свой стишок Карафолька ровно столько же времени, сколько и господь бог землю — шесть дней.
Только, по-моему, результаты были значительно хуже.
Хотя девчонкам стишок этот, понравился, особенно последние строчки:
Мы же с Павлушей, как специалисты, считали, что стишок Карафольки, или, как он его сам, краснея, называл — «мадригал», требует еще серьезной авторской доработки. Во-первых, такие, например, строки, как:
кроме того, что это не очень здорово звучало, были еще и брехнею, потому что человек, который в своем уме, не может, по-моему, любить префиксы и суффиксы.
Во-вторых (и это главное!), «мадригал» был безличный — в нем даже ни одного раза Галина Сидоровна не называлась по имени.
Карафолька начал бить себя в грудь и говорить, что старался… Но ведь сколько всяких заковык! Ну, например, никак не вставала Галина Сидоровна в строку, хоть ты тресни! Если бы она была, скажем, Ганна Ивановна (как Гребенючка), так все бы очень просто: «Наша милая Ганна Иванна!», «Мы вас любим, Ганна Иванна!», «Не забудем мы Ганну Иванну…» Но называть ее Ганной Ивановной, когда она Галина Сидоровна, было бы просто нетактично. А «Дорогая наша Галина Сидоровна» в стихах ну никак не читается. Это бы уж были не стихи, а проза. Потому и пришлось ограничиться безличным: «Дорогая и любимая наша!..»
Так оправдывался Карафолька. А мы с Павлушей доказывали, что настоящий поэт тем и отличается, что умеет найти выход из самого безвыходного положения.
В конце концов Карафолька покраснел и опустил голову.
Но тут все на нас зашикали, и нам пришлось согласиться, что это стихотворение, конечно, можно прочесть, ведь это же не для печати, а так просто. Вот если бы для печати, тогда другое дело…
Дальше решили, что в конце торжественного прощания Антончик Мациевский сфотографирует Галину Сидоровну со всем классом. И мы подарим ей эту фотографию с волнующей надписью и все-все, как один, на обороте распишемся.
Вот что придумала наша комиссия.
Ну что ж, для официального прощания вполне прилично. Все с этим согласились. И разошлись. А в половине второго встретились снова…
По-праздничному нарядно одетые, чистенькие, с огромными букетами цветов, мы в торжественном молчании прошли по ковру-дорожке за свои парты, сели и стали ждать.
Наш друг, восьмиклассник Вовка Маруня, заведовал «службой безопасности», и мы были спокойны, что любопытная ребятня не испортит нам дело. А то ведь это такой народ, что облепит все окна, начнет хихикать, гоготать и все сорвет. Вовка расставил посты и блокировал все входы и выходы.
Минут десять мы сидели и молчали.
И это наше молчание было каким-то торжественным началом всего того, что должно было произойти. Мы настраивались на прощальный лад. Мы вспоминали все, что пережили вместе с Галиной Сидоровной за эти семь долгих лет. Она стала нашей первой учительницей, когда мы пришли в первый класс. Тогда она только что закончила одиннадцать классов (были еще школы-одиннадцатилетки) и первый год начала учительствовать. Она учила нас и училась сама — заочно в пединституте. Мы окончили пять классов, а она — пединститут.
Мы сдавали первые в своей жизни школьные экзамены, а она — государственные. И из учительницы младших классов скоро стала преподавателем украинского языка и литературы. И продолжала нас учить. И довела до восьмого. Мы думали, что и в восьмом классе она будет, и в девятом, и в десятом. И вот… Это просто не укладывалось в голове! Неужели она больше не будет нашей учительницей? Никогда не войдет больше в класс своей легкой, стремительной походкой, не бросит журнал на стол, не спросит, как всегда, звонким голосом: «Ну, кто из вас не приготовил на сегодня задание? Признавайтесь!» После этого вопроса я частенько ложился грудью на парту, прячась за спину Степы Карафольки, который сидел передо мной. Но она всегда замечала это и говорила: «Рень, к доске!» И я поднимался красный, как мак, и, вздыхая, плелся к доске… Неужели этого никогда не будет?! Ни-когда! Наверное, первый раз в жизни это безжалостное слово так поразило меня… Сердце мое сжалось…
В коридоре послышались знакомые легкие шаги.
Я не знаю, как это вышло, но все мы разом, как по команде, не сговариваясь, подхватились и встали еще до того, как она вошла.
Но она не сразу отворила дверь. Нет. Мы слышали, как она подошла и остановилась перед дверью. И какое-то время стояла, не решаясь войти. Она стояла там, а мы стояли тут. И это была минута, которую трудно передать…
И когда она наконец резко, как всегда, отворила дверь, мы стояли за партами с букетами в руках, неподвижно, как вкопанные. Она медленно обвела нас всех взглядом, — кажется, заглянула каждому в глаза. И молча простерла к нам руки — будто хотела всех сразу обнять.
Губы у нее дрожали, подбородок вздрагивал, она часто-часто моргала. И тут мы заметили, что она… плачет…
Ух, что тут поднялось!
Буря!
Девчонки все сразу громко заревели, кинулись к ней и обхватили, облепили ее со всех сторон и начали целовать, продолжая плакать.
А мы, ребята, как по команде, повернули головы и стали смотреть в окно, кривясь и кусая губы. И все глотали и никак не могли проглотить что-то упругое, что как будто застряло у нас в горле.
Какое тут могло быть художественное выступление Гребенючки и художественно-юмористический номер Кагарлицкого, не говоря уж о Карафолькином «мадригале»?
Все враз полетело к черту!
А потом мы вышли из школы и, сгрудившись тесной толпой вокруг Галины Сидоровны, пошли на речку, а потом в поле, в лес… И ходили так долго-долго, до самого вечера. И почти ничего не говорили, просто ходили вместе и не хотели разлучаться. А там, в лесу, расселись на кругляках вокруг нее и пели песни. Долго-долго… И никто не драл глотку, как это бывает, все очень старались, и выходило так стройно, красиво, как никогда. И песни выбирали всё лирические, такие, что у девчат по щекам слезы текли, да и не только у девчат… И никто не скрывал этого, что ж тут скрывать, если песня берет за душу.
А на следующий день была свадьба.
Ну что вам сказать?
Чтоб описать эту свадьбу, наверно, нужно было бы запрячь в это дело всех писателей Украины.
Скажу только, что такого мощного праздника в нашем селе не помнили даже самые старые деды. Наверно, такого и не было.
За одним столом сидело все наше село, да еще полгрузинского, да целый полк солдат, да гости из района во главе с секретарем райкома товарищем Шевченко.
Это была не просто свадьба.
Это был праздник дружбы народов.
Это был праздник доблести нашей армии.
Так говорили, провозглашая тосты, и секретарь райкома товарищ Шевченко, и полковник Соболь, и председатель нашего колхоза Иван Иванович Шапка, и председатель грузинского колхоза Шалва Тариэлевич Гамсахурдия, и многие другие знатные гости.
Громкоговорители не смолкали ни на минуту, и все эти тосты были слышны, должно быть, даже в соседних селах.
Стол для ребят был накрыт отдельно. И уж мы этого лимонада попили и мороженого, конфет да разных грузинских лакомств поели — от пуза!
Между прочим, когда я бегал на минутку домой (проверить, запер ли сарай, где была наша «тайна»), я видел, как по улице проехал на машине отец Гога. Возле колхозного сада он остановился, и выглянул из машины, и все смотрел, и прислушивался к свадьбе. Но, заметив меня, скрылся в машине и сразу поехал. Лицо у него было как у мальчишки, которого не взяли на праздник, потому что он плохо себя вел. И я почему-то подумал, что отец Гога, наверно, чувствует себя очень одиноко и завидует нашему шумному веселью. У них в церкви никогда таких свадеб не было и не будет.