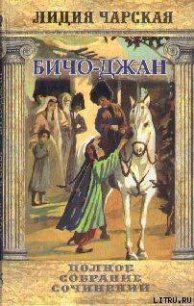Том 34. Вечерние рассказы - Чарская Лидия Алексеевна (читаем книги онлайн без регистрации txt) 📗
— Да как же ты, болезный мой, так долго голодать-то будешь? — сокрушенно тянула своим слабым голосом Капитолина Власьевна, больная мать Павлуши.
— Полно, мамаша. Сыт я… До вечера терпеть могу… Вон спросите Настюшку, сколько я при ней хлеба уписал нынче. С запасом на случай голода! Что уж тут, потолстел даже! — шутил Павлуша и, чтобы избежать дальнейших сетований матери, спешил собрать свои книжки и тетради и бежал в гимназию.
Разумеется, из желания успокоить мать говорил это юноша. На самом же деле, как бы ни был он сыт утром от ломтя черного хлеба и двух кружек чая, к шести часам вечера после сделанного им немалого моциона из гимназии до семнадцатой линии и в Спасский переулок оттуда Павлуша чувствовал не только явный голод, но и чрезвычайную усталость, и какую-то разбитость во всем теле.
— Ну вот, слава тебе Господи, пришел-таки батюшка… А мы уж думали, не придешь нынче. Ин, холодина-то какая. Добрый хозяин собаки не выпустит на улицу. Ты бы чайком побаловался малость! А? Я тебе налью стаканчик, батюшка! — так говорила рыхлая седая старушка в бумазейном платье с разводами, в черной наколке на голове, сама лавочница Анфиса Харлампиевна, крестная мать и бабушка Павлушиного ученика.
Сам ученик, двенадцатилетний Кокочка, умудрившийся застрять на третий год в первом классе ближайшей к их дому мужской гимназии и не исключенный только ради усиленных просьб его дедушки Кузьмы Матвеича Лодыгина, усиленно занимался в эту минуту соскабливанием с замерзших окон тоненьких льдинок и сосал их, как леденцы.
— Благодарю вас, Анфиса Харлампиевна, чая я не хочу. Да и не холодно нынче вовсе! — поторопился отказаться Павлуша.
— Ну, как знаешь, батюшка! — не совсем довольным голосом произнесла старуха и, выходя из комнаты, ворчливо заговорила себе под нос:
— Ишь, гордый какой! Всякий раз хлебом-солью нашим гнушается… Подумаешь, емназист так и барин. А у самого-то нос, что твоя клюква подснежная от стужи-то, да и пальтишко-то не сегодня-завтра расползется по швам… А тоже, фордыбачится, генерал какой!
Если б знала только старуха причины, побуждавшие Павлушу отказываться всякий раз от ее угощений! Бедный юноша, действительно застывший от холода, не прочь был напиться и горячего чая, и отведать вкусного пирога, оставляемого ему иной раз от обеда хлебосольной по натуре Лодыгиной, но Павлуша никогда бы не решился лакомиться всеми этими вкусными вещами, в то время как его семья питалась одним хлебом да картофелем, а в лучшем случае пустыми кислыми щами.
Нынче же особенно потянуло мальчика проглотить стакан горячего чая с вкусной домашней булочкой (иначе, он это знал прекрасно, чай не подавался в зажиточной семье лавочника), но он превозмог себя и отказался.
— Ну, Кока, приступимте! — бодрым, почти веселым тоном обратился он к прилипшему к окну мальчику и, потирая иззябшие руки, уселся к столу.
Кока нехотя оторвался от окна и, переваливаясь с боку на бок, лениво занял свое обычное место напротив репетитора.
— Ну, что у вас на завтра? Покажите-ка классный дневник!
Кока так же нехотя, с теми же ленивыми движениями протянул Павлуше синюю, украшенную несколькими кляксами, тетрадку.
Павлуша узнал из тетрадки, что было задано, пожурил мимоходом Коку за небрежное отношение к классным вещам вообще и за бесчисленные кляксы, усеявшие тетрадь, в частности, и перешел к объяснению математической задачи.
"У одного садовника в саду было тридцать семь яблонь…" — так гласило начало задачи, заключающей в себе все четыре действия сразу, но далеко не трудные для самого малоспособного ученика.
Кокочка, внимательно слушавший было задачу, вдруг широко улыбнулся и, неистово болтая под столом ногами, выпалил:
— А у нас, Павел Петрович, у бабушки в деревне тоже яблоня есть. Огромадная!
И он даже языком прищелкнул от удовольствия, припомнив, какая большая растет в их деревенском саду яблоня.
— Вы, Кока, лучше задачу повторите, чем глупости говорить! — серьезным тоном, не поднимая глаз от книги, остановил его Павлуша.
Кока покорно замолчал и притих на минуту. Но на минуту только, не более.
— Павел Петрович, — неожиданно произнес он, лукаво прищурив серые заплывшие глазки, — а у вас в гимназии в младших классах переплевываются за уроком?
— То есть как это переплевываются? — не понял Павлуша.
— А очень просто. На перышки. Я, например, перышко ставлю на том, что на чужую парту в чернильницу попаду… И ежели попаду — мое перышко, не попаду — соседа. Я таким манером за этот месяц две дюжины перышек выиграл, вот как мы! — с явным хвастовством присовокупил мальчик.
— Перестаньте, пожалуйста! — вспыхивая, снова остановил его Павлуша. — Решайте задачу, не время теперь говорить. Завтра опять единицу получите. И дед ваш опять будет недоволен.
Этот аргумент немного подействовал на Кокочку, и он снова затих на некоторое время.
С трудом одолел он задачу и в присутствии Павлуши, под его руководством, выдолбил, как попугай, повторяя за ним каждое слово, главные реки Европы и уже приступил к диктовке, которую они ежедневно делали с репетитором, так как орфография у бедного Кокочки хромала больше всего, и на нее особенно налегал ретивый Павлуша.
Писал Кокочка возмутительно. Не говоря уже о букве «Е» и знаках препинания, к которым мальчик питал явную, непримиримую, ничем не объяснимую вражду, делал Кокочка и в самых простых словах самые непозволительные, грубые ошибки.
Написать в два приема слово «курица», поставить твердый знак после буквы «ч» в слове «чернильница» ему ничего не стоило, по-видимому.
— Это ужас что такое, опять вы «белый» через «э» написали! — проверяя его усеянную ошибками диктовку, возмутился Павлуша. — Ведь сколько раз я твердил вам, что «белый», "белить", «белье» через «е» пишется! Ведь вы этак на четвертый год в классе останетесь! — возмущался он.
— На четвертый не оставляют… На четвертый выключат обязательно! — с невозмутимым спокойствием заявил Кокочка.
— И выключат! Да разве от этого легче? Что ваши дед и бабушка на это скажут? — волнуясь, говорил Павлуша.
— Дедушка выдерет! А бабушка плакать будет, это уж обязательно, — ковыряя перочинным ножичком край стола, так же невозмутимо отозвался Кокочка.
— С чего это будет плакать бабушка? С чего это, Кокушка? А? — послышался голос с порога, и лавочница Лодыгина предстала перед Павлушей и его учеником.
— Да вот предостерегаю, Анфиса Харлампиевна, внучка вашего, учится уж он больно плохо… Хочу нынче же с Кузьмой Матвеевичем переговорить, не даром же деньги брать с вас, если не видно никакого успеха, — краснея до ушей, произнес Павлуша.
— И-и, батюшка мой, — испуганно затянула Лодыгина, — что ты это вдруг такое надумал! Да храни тебя Господи самому жалиться на Кокочку! Сам-то у нас ужас какой свирепый; выпорет он мальчонку как Сидорову козу. Долго ли искалечить таким манером ребенка? Рука у него тяжелая, дух воинственный, долго ли до греха, говорю! А Кокушка у нас слабенький, сырой, храни его Господи! Нет, уж ты и из головы это выкинь, батюшка, чтобы жаловаться. Тебе что? Сиди себе да учи, небось, не просидишь места-то!
— Да поймите же, не могу я деньги брать задаром, ежели внук ваш никаких успехов в занятиях со мной не показывает! — волнуясь, дрожащим голосом говорил Павлуша.
— Ну, уж ты это глупости говоришь, извини меня, старуху, батюшка! Что, тебе мешают, что ли, чужие денежки? Ты знай себе учи его да поучивай, а что из этого выйдет, не твое дело. Денег у нас, слава тебе Господи, сухо дерево завтра пятница, — постучала она средним суставом указательного пальца об стол, — чтоб не сглазить, тьфу, тьфу, значит, — пояснила она тут же удивленно вскинувшему на нее глазами Павлуше, — так неужто же мы о такой малости говорить станем! Да ты вот что, батюшка, ты начистоту мне скажи, по-хорошему, — тебе ежели мало десятки, так я два рублевика от себя кажный месяц прибавлять стану. И самому не откроюсь, и Кокушке молчать закажу! Ась? Может, и столкуемся, батюшка?