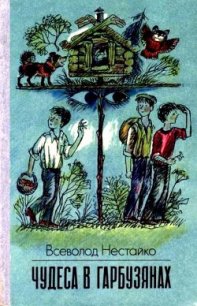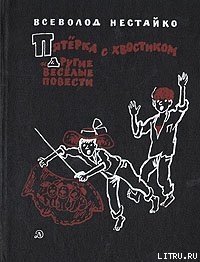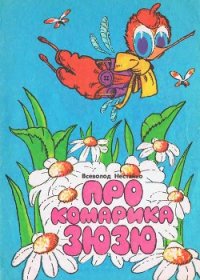Тайна трех неизвестных (с илл.) - Нестайко Всеволод Зиновьевич (читать книги без регистрации .TXT) 📗
Но, свернув за угол, я сразу забыл, за чем шел.
Внимание мое привлекли рисунки, выставленные в окне пионерской комнаты. Это была постоянно действующая выставка работ членов изокружка. Анатолий Дмитриевич выставлял лучшие рисунки своих учеников в окне пионерской комнаты, и эта выставка все время обновлялась.
Теперь все рисунки и скульптуры были новые и все посвящены тому, как спасали село от наводнения. Затопленные хаты, амфибии, нагруженные всяким скарбом, солдаты, снимающие людей с крыш, и т. д.
А один рисунок… У меня перехватило дыхание, когда я взглянул на него. На этом рисунке я увидел… себя!
Темная, почти под потолок затопленная хата, в углу икона, перед которой горит лампадка, а посреди хаты, ухватившись за провод, в воде — я…
Ну конечно, это был рисунок Павлуши. И так здорово, так точно было нарисовано, будто он сам пережил это. Вот что значит художник! Молодец! Просто молодец! Он наверняка станет художником. Есть у него способности, есть. У меня насчет этого — никаких сомнений.
И впервые я подумал об этом без зависти, а с искренней радостью.
И впервые я почувствовал, какое это прекрасное чувство — гордость за друга.
Я долго разглядывал рисунки. Там было много хороших, но с Павлушиным не мог сравниться ни один.
И молчал ведь, сатана, ни слова мне не сказал.
Вот я сейчас пойду и прямо скажу ему, что он талант, и… дам в ухо. Чтоб не задавался. Для талантов главное — не задаваться. И потому обязательно им нужно время от времени давать в ухо.
Я решительно направился на школьный двор. И вдруг стал как вкопанный. Возле мачты стояла… Гребенючка. Стояла и прицепляла к шнуру, на котором поднимают флаг, белый платочек.
Это было так непонятно, так фантастично, что я просто оторопел.
Тьфу ты! Так, значит, один из трех неизвестных — Гребенючка!
Вот тебе и на?! Да почему же из трех?
Может, она одна все это и придумала! «Г.П.Г.» — Ганна Петровна Гребенюк. Но она ведь не Петровна, она Ивановна. Ведь ее отец Иван Игнатович. И почерк же совсем не ее, взрослый почерк. И по телефону говорил басистый дяденька. Она никогда в жизни так голос не подделает. И письмо ведь мне передал офицер на мотоцикле. И мне и Павлуше.
Павлуше?
А может…
Может, Павлуше вообще никто никакого письма не передавал и ничего с ним такого не было, а просто он с ней заодно.
Молчал ведь, не признавался, пока уж я первый не начал.
И «Г» — это Ганя. «П» — Павлуша, а второе «Г» — может быть, Гришка Бардадым или еще кто-нибудь.
А я-то, дурак…
Нет! Вряд ли!
Павлуша не может быть таким предателем! Тогда вообще нет правды на земле!
Нет! Пожалуй, одно только мог Павлуша: не удержаться и рассказать ей про письмо (мы с ним тогда в ссоре были). А может, она сама то, второе письмо прочитала. Она же староста кружка, собирает альбомы, а ведь то письмо было в альбоме. Точно!
Прочитала и решила подшутить. А может быть, даже захотела что-нибудь подстроить, чтобы поссорить нас. Видит, что мы помирились, и это ей покоя не дает. У-у, курноска паршивая!
Мне ужасно хотелось подскочить сейчас к ней и двинуть ей как следует. Но я сдержался. Это бы значило признать себя побежденным. Нет! Нужно что-то придумать такое, чтоб ей… Она ведь не знает, что я вижу, как она прицепляет платок. И этим можно здорово воспользоваться.
Спокойно, Ява, спокойно, дорогой! Дыши глубже и возьми себя в руки!
Гребенючка потянула за шнур, и белый платок пополз вверх, на верхушку мачты. Когда платок был уже наверху, Гребенючка воровато оглянулась вокруг и шмыгнула на улицу. Меня она, конечно, не заметила, потому что я стоял за углом школы да еще и в кустах.
Я еще несколько минут простоял вот так, не двигаясь. В голове роились беспорядочные мысли. Я никак не мог придумать, что бы такое устроить Гребенючке, как бы ее проучить.
Ишь решила шутки надо мной шутить! Ну погоди! Ты у меня запляшешь!
Первое, что нужно сделать, — немедленно снять этот белый платок. Павлуша не должен его видеть. Если он не в сговоре с Гребенючкой, то подумает, что это правдивый знак. А если в сговоре, то должен будет как-нибудь выдать себя: начнет беспокоиться, почему на мачте нет платка, и я таким образом дознаюсь.
Полминуты — и платок у меня в кармане.
Солнце повернуло уже к полдню, скоро Павлуша прибежит домой.
Я пошел ждать его у хаты.
Его почему-то долго не было. Уже отец и мать Павлуши пообедали и снова пошли на работу, уже все соседи с улицы поели и разошлись, а его все нет и нет. Я уж волноваться начал — не случилось ли что-нибудь с ним. И наконец вижу — бежит. Запыхавшийся, взъерошенный какой-то, а глаза — как у зайца, что из-под куста выскочил, так и светятся.
Кинулся ко мне и слова выговорить не может, только хекает:
— Слу-шай!.. Слу-шай!.. Слу-шай!..
— Что такое? — спрашиваю. — Горит что-нибудь или снова наводнение?
— Нет… Нет… Но… Слушай, он хочет ее украсть!
— Кто? Кого?
— Галину Сидоровну!
— Кто?!
— Лейтенант.
— Тьфу ты! Что она, военный объект, что ли? Какой лейтенант?
— Да грузин тот с усиками, с которым ты на амфибии ездил.
— Он что, сдурел?
— Не сдурел, а влюбился! И ты же знаешь, какие у них обычаи? «Кавказскую пленницу» помнишь? Понравится такому янычару дивчина, он ее хватает, связывает, на коня — и в горы!.. Понял?
— Да откуда ты взял? Расскажи толком!
— Слышал! Собственными ушами слышал! Понимаешь, начался обед, все разошлись. И я уже собирался… Как вижу, этот самый грузин возле нашей Галины Сидоровны ошивается и что-то ей нашептывает, а она отмахивается сердито и хочет уйти, а он ей дорогу преграждает. Это во дворе у Мазуренков, за хатой, там, где наполовину засохшая груша, знаешь. Ну, я спрятался на огороде в кукурузе, смотрю, что же будет. А она ему: «Ну отойди, ну отойди, я тебя прошу!» А он: «Не могу больше! Я тебя украду, понимаешь, да! Украду!» Она что-то ему сказала, я не расслышал, а он: «Сегодня в одиннадцать, после отбоя». А она как вырвется, как побежит. Он рукой только так — мах! — раздраженно и не по-нашему что-то залопотал, заругался, наверно, а глаза прямо как у волка — зеленым огнем пылают… Вот!
— Ты смотри… — пожал я плечами. — А ведь вроде такой хороший. Мальца Пашковского спас. И вообще…
— Прямо отчаянный. И видишь — дикий человек. От такого всего можно ожидать. Еще зарежет. У них у всех кинжалы, ты же знаешь.
Меня сразу охватила горячая волна решимости. После стольких дней вынужденного бездействия и скуки душа моя требовала острых ощущений и действий.
— Нужно спасать! — твердо сказал я.
— Самим? — недоверчиво посмотрел на меня Павлуша. — А осилим?
— Да чего там! Возьмем хорошенькие дубинки, а если что, поднимем такой тарарам — все село сбежится. Никуда он не денется!
— Но тебя же из дому не выпустят так поздно. Ты ведь еще больным считаешься.
— Да какой там больной? Сегодня последний день. Я, знаешь, к тебе в гости приду, а потом ты меня пойдешь проводить, и мы — фюйть!
Мне даже самому весело стало, как я здорово придумал.
Мы договорились так: Павлуша придет вечером со строительства, зайдет ко мне и пригласит в гости, а я заранее приготовлю хорошие увесистые дубинки и спрячу их в саду под забором.
Поэтому Павлуша побежал быстренько пообедать — боялся, чтобы товарищи не подумали, что он отлынивает. А я сейчас же пошел в орешник срезать дубинки.
Про Гребенючку я Павлуше так ничего и не сказал. Не хотелось портить ему настроение. Кроме того, у меня мелькнула мысль: «А ну как Гребенючка заодно с тем грузином…» Не то чтоб заодно, а просто он, возможно, ее запугал и заставил помочь. И всю эту историю с письмами придумал для того, чтобы меня и Павлушу выпроводить из села на то время, пока он будет выкрадывать Галину Сидоровну. Чтоб мы ему не мешали. И тут я подумал, что это наверняка он был тогда вечером в ее саду. И он знает, конечно, что мы с Павлушей в обиду ее не дадим… Так вот, как раз сегодня, когда он собирается выкрасть Галину Сидоровну, Гребенючка и вывесила на мачте этот условный белый флажок.