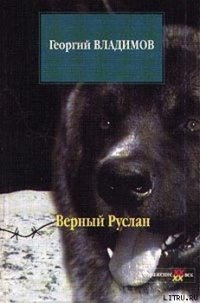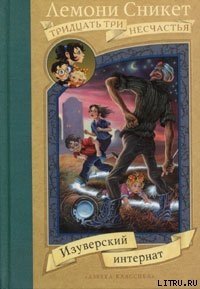Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
Мы так старательно уклонялись от цветущих вишен, что то и дело натыкались друг на друга.
Что можно сказать, имея в распоряжении полсотни шагов?
Поскольку старшие классы расформировывали, я знал, что через несколько дней она уедет, — тогда это для меня было равносильно тому, что она перестанет существовать (в юности каждый из нас бывает субъективным идеалистом если не по строю ума, то по строю чувств: любимая существует, пока она на глазах — помните знаменитый пример со стаканом воды?). Все мое существо восставало против утраты, щенячья, сиротская тоска, сравнимая лишь с тоской по матери, закипала во мне, и я сломя голову бросился спасать ее, Лену Нечаеву:
— Давай поженимся, — сказал.
Лена пожала плечами, удивленно, как при решении неподдающихся задач на самоподготовке, взглянув на меня. Солнце било ей в глаза и стояло в них двумя пушистыми столбами света. Она меня не понимала. Она не видела могильной черты, которую щенячьим ли, волчьим ли чутьем уже почуял я, и, почуяв, задрал морду к звездам и обреченно завыл.
Сказались загадочный скос, дополнительная телескопическая линза, делающая человеческое сердце дальнозорким: видеть то, что не видно.
Лена спасаться не хотела. Или до спасения не хватило шагов? Половины шага, на которую я не отважился год назад?
Нас расформировали, и она уезжала в воскресенье. Уезжала их целая группа, человек восемь, — все, кто жил на Кавминводах. Уезжали поездом, на котором мы когда-то догоняли Джека Свистка и который уходил в пять утра. Часа в три я услышал, как сторожиха тетя Маша, вошедшая в спальню на цыпочках, с виноватой осторожностью, как в больничную палату, будила Кузнецова, и Кузнецов потом, плавая в тонком предутреннем воздухе, вяло, по- рыбьи натыкался спросонок на чью-то обувку и, так же вяло чертыхаясь по этому поводу, тормошил своих попутчиков.
Я боялся проспать этот час, засыпал и вскидывался, как ужаленный, путая ночь со светом, а сейчас лежал не шелохнувшись. Снится страшное, а ты прирос к земле…
Страшно не было. Было все равно. Лежал бы так и лежал — и утро, и день, и следующую ночь. Только бы Кузя не полез прощаться.
Сейчас и она встает, одевается в раннем процеженном воздухе — подплывает с тумбочки платье, подплывают руки к дремлющим волосам, окунувшимся в лицо, как окунаются в воду ивовые купы. Потом два этажа вниз, аллея, узкий тротуар, по которому они будут идти сгрудившись, ежась от рассветного холода, невыспавшиеся и неразговорчивые; вокзал… Вскочить, спуститься, проводить. При всех?
Что это изменит?
Пройдет время, человек научится соизмерять свои горести. Методом исключения, самым эмпирическим из всех, придет к наипростейшей, изначальной мерке в этой плавающей шкале: к жизни и смерти. Но то будет далеко-далеко от этого занимающегося дня, когда из всех исключений останется только одно. Уже само обретение меры, обретение истины — как начало небытия. «Начало бесконечности» — грустная уловка для нашего конкретного ума.
Но тогда человек был юн и еще мог со счастливой искренностью умирать с каждым дорогим ему существом.
Я пролежал до вечера, сказавшись больным — умирающим! — отвернувшись к стене. Ближе к вечеру встал, побродил по интернату. В этот день уезжали многие однокашники, но прощались мы наспех, как понарошку — это гораздо позже проснувшаяся память будет молча, клубочком вести нас в интернат: и за друзьями, и за опорой, и просто за глотком юности. Сходил в город, до самого вокзала. Пустая привокзальная площадь, пыль, в которой самозабвенно купались воробьи, вонь от будочки с пивом, желтый, невытравимо азиатский караван-сарай вокзала — жизнь еще даст мне возможность убедиться в их заколдованном единообразии. Еще несколько часов назад все это было одушевлено, осмыслено ею.
Я сам себе казался площадью, пылью, в которой купаются воробьи, будкой с пивом, обезлюдевшим и потому безжизненным караван-сараем. Все было на месте — людей лишь не было. Никаких следов.
Я слал ей письма, она иногда отвечала мне. Я писал, как люблю ее, она писала, как учится, как живет. Я ждал ее писем подолгу, месяцами, подсчитывая подходящие сроки для них, как когда-то угадывал ее появленье на аллее. Каждый конверт от нее был моим материализовавшимся сном. На содержание конвертов процесс материализации не распространялся. Я хватал долгожданное письмо с надеждой хоть за что-то зацепиться в нем, а зацепиться было не за что. «Учусь, бываю в кино, приехала Ольга…». Ни сучка ни задоринки.
Времени между конвертами было достаточно, и я употреблял его на совершенствование нашей переписки. Мысленно подсказывал ей, как она могла бы подарить мне соломинку. Что подарить — забыть, обронить: в стерильных пучинах — живая соломинка.
Например: «Была в кино, смотрела (допустим, «Девять дней одного года») и вдруг вспомнила. Впрочем, речь не об этом. Знаешь, приехала Ольга…»
Время от времени я не выдерживал и писал ей, тешась собственной категоричностью: «Такого-то выезжаю. Встречай на вокзале в Минводах».
И точка.
Я выезжал — я успел сродниться с нашим единственным поездом, как с грузовиком дяди Феди.
И никто меня, естественно, не встречал.
Полдня шатался по вокзалу в надежде, что мы с нею разминулись, потом покупал билет на обратный путь. И тот же поезд с дружеским сочувствием привозил меня назад.
Получал очередное письмо, в котором не было и намека ни на мое ультимативное послание, ни на мой незадачливый вояж.
В конце концов я взбунтовался. Летом, когда с ее отъезда миновал ровно год, после очередного неудовлетворенного ультиматума не купил билет и не поехал обратно, а двинулся в Пятигорск, нашел пригородную автостанцию — она находилась на курортном рынке и была так густо облеплена народом, как будто тоже продавалась навынос (в таком случае это был бы самый дешевый товар на здешнем рынке), — набравшись храбрости, поехал на автобусе в ее село. Автобус петлял по узкому, стесненному садами и огородами — сразу видно, что земля в здешних благословенных местах ценится дороже, чем в наших степях, — шоссе, и с каждым новым указателем моя решимость потихоньку таяла: мы с нею двигались в противоположных направлениях. Но делать нечего. Автобус достиг ее села, и я вышел на первой же остановке в начале улицы. Еще совсем недавно больше всего на свете желавший встречи с нею, я теперь всячески оттягивал ее. Пройдусь пешком, найду дом — хитрил сам с собой.
По самой околице текла неширокая зеленая река. Подкумок. В песке возле нее копошились мальчишки, бурые и разомлевшие, как дождевые черви. Можно было спросить дорогу у них, но я решил, что и ее улицу отыщу сам — опять тянул время. Прошел несколько шагов и чуть не споткнулся: прямо напротив меня, на рассохшейся калитке, красовалась новенькая, как погон, табличка; «Ленина, 145».
Двор за калиткой спасительно пуст.
Повернуть назад? — голопузые чертенята за спиной наверняка наблюдают за мною. И потом — семь верст киселя хлебать, чтобы так бесславно сбежать? С другой стороны, как ее позвать; «Хозяева!», «Лена!» — или просто трясти калиткой? Калитка такая, что из нее и душу невзначай вытряхнешь.
Двор у них длинный, узкий, и я, краснея от нелепости обращенья, крикнул первое. «Хозяева!» — кричали нам в окна случайные путники, просившиеся на ночлег. Вообще-то просились вначале к другим, очень уж одиноко, отторженно стоял наш дом, но другие почему-то всегда направляли к нам. Ужин на скорую руку — странствующие ели с подчеркнутой аккуратностью; своеобразная простонародная форма благодарности, — потом мать бросала им на пол соломы, задувала лампу и, намаявшаяся за день, мгновенно засыпала, а я еще долго вслушивался с печки в перешептывание, вздохи, всхлипы старух, погорельцев и бог весть кого — шли пятидесятые годы, когда дороги вскрылись, как речки.
Бросят соломы? Пригласят к столу?
Если бы она сразу не вышла из хаты, второй раз я бы не крикнул.
Она шла к калитке, с недоумением вглядываясь в меня, а я с самого начала, еще когда она только появилась на пороге низенькой, продолговатой хатки, спрятавшейся в глубине двора, понял, что это не Лена. Ольга. Подошла к калитке. От напряженного любопытства, а может, и оттого еще, что я сам был как вареный рак, лицо ее вспыхнуло. Это был уже не оладушек; за три года с тех пор, как я видел его на интернатской аллее, из детского, едва заквашенного полнолуния выпекся тонкий, промешанный серп с кожей чистой и подтаявшей, с предутренним свечением под нею.