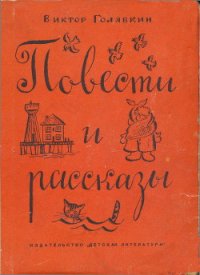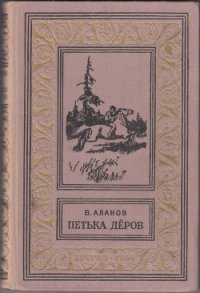Повесть о красном орленке - Сидоров Виктор (читать книги полностью .TXT) 📗
Бабушка, увидев мужчин и гармонь, заспешила на кухню: без угощения, конечно, не обойтись.
Костя шутил, рассказывал что-то забавное и развеселил всех. Потом взял гармонь, повел озорными глазами:
— А теперь, Ефросинья Петровна, выполняю свое обещание.
Он легко тронул клавиши, пробежал по ним пальцами сверху вниз и задумался. Потом решительно тряхнул густым чубом, заиграл. Заиграл что-то бойкое, веселое, такое, что у всех появились улыбки, загорелись задором лица. А пальцы все бегали по ладам легко и беспечно, и гармонь заливалась, звенела, смеялась.
Артемка с гордостью поглядывал на мать, на гостей. Пусть все знают и видят, какой у него друг, какой он лихой партизан, гармонист. А Костя, будто понял мысли Артемки, заиграл так, что Любаха Выдрина не вытерпела, вышла на середину горницы и так отплясала, что окна зазвенели и пол застонал. «Вот бы Настенька посмотрела»,— пришла неожиданно мысль. И от одного воспоминания о ней стало еще веселее.
Он видел мать, улыбающуюся, взволнованную; бабушку, что прислонилась на минутку к дверному косяку, да так и осталась стоять, запамятовав о печи да ухватах; Костю, озорного, веселого; Тимофея, приодетого, помолодевшего. И было Артемке хорошо и радостно, будто наступил большой небывалый праздник.
Но вот примолкла гармонь. Костя опустил руки. В избе сразу стало шумно: заговорили, задвигались люди.
— Ай да парень! — послышались голоса.— С таким быстро подметки потеряешь.
Смущенно поднялся и подошел к Косте Тимофей, шепнул что-то на ухо. Костя кивнул и заиграл совсем иное — грустное, протяжное. Как только призатихли первые звуки, в музыку сразу, легко и неприметно, будто сам по себе, вплелся и зазвенел Тимофеев голос:
Слушает песню Артемка, а у самого глаза затуманились.
Неожиданно всплыло в памяти изможденное, усталое лицо вдовы, на квартире которой стояли с Суховерховым, вспомнил ее ребятишек, что с голодной тоской смотрели с печи, как Суховерхов режет хлеб и сало... Так живо вспомнилось, будто увидел их снова. И снова, как тогда, защекотало в горле.
«Зх, скорей бы кончалась такая жизнь! Скорей бы побить беляков!..»
Отзвучала песня. Смолкла, будто устала, гармонь. Строгий и побледневший, сел Тимофей на свое место. И, должно быть, тоже не видел ни опечаленных лиц, ни слез, которых не скрывали взволнованные женщины. Никто не хвалил его, как Костю, никто не двинулся с места, только рассматривали с каким-то восхищенным удивлением: откуда в этом тщедушном мужичонке такой голос, такая сила, что вышибает слезу?
Еще сидели задумчиво люди, когда вдруг широко отворилась дверь и в избе появились новые и дорогие гости — Колядо и Неборак. Колядо оглядел быстрым взглядом собравшихся, засмеялся добродушно:
— Вот это веселье! У всех слезы на очах и лица, як на поминках.
— Это нас Тимофей в грусть вогнал своей песней,— улыбнулся Костя.— Садись, Федор.
— Некогда, Костик. Забот полон рот.— И шагнул к Артемке.— Ну, Артем, познакомь нас с твоей мамой.
Артемка взволнованно подвел командиров к матери.
Неборак и Колядо крепко пожали ей руку. А Колядо сказал:
— Спасибо, мать, за сына. Хороший человек растет и смелый партизан.
...Давно разошлись гости, давно погасили свет, а Артемка никак не может уснуть. Лежит, смотрит в темь и думает, думает...
12
Радость всегда ходит в обнимку с горем...
В полдень хоронили погибших. Артемка стоял в рядах своих товарищей партизан, суровый, подтянутый.
Колядо поднялся на холм свеженарытой земли, медленно оглядел безмолвную толпу сельчан, ровный строй партизан.
— Мы провожаем в последнюю дорогу наших дорогих товарищей,— сказал он ровным негромким голосом.— Они были славными партизанами и погибли в бою за народ, за Советску власть... Нет здесь, среди товарищей, геройски погибшего нашего связного Севастьяна Избакова — деда Лагожи. Замордовали его белогвардейские каты, а тело сховали... И оттого, шо не можем мы сегодня отдать ему наш последний святой долг — похоронить с честью, еще горше становится на сердце...— И, уже повысив голос, крикнул: — Но нехай колчаковцы не радуются нашему горю. Они уже дорого заплатили за него. Целый отряд карателей мы развеяли, як пух по степу, а с сотню бандитов лежат у земле, як поганые псы. Это, товарищи, только задаток врагу. Полный расчет не дюже далек. Побачьте, шо делается на нашем Алтае. Як полымя, вспыхивают одно восстание за другим, як гром, гремят выстрелы, як молнии, сверкают шашки и пики в руках трудового человека. Горит земля алтайская под ногами белогвардейцев. Да, трудно нам. Не одно еще храброе сердце будет пробито бандитской пулей, не одна горючая слеза упадет на многострадальную землю. Но наша победа придет. Мы вернем свою народную власть, мы станем жить на земле хозяевами...
Колядо умолк, опустив голову. Затем долгим взглядом прошел по лицам погибших и снова тихо:
— И мы клянемся вам, дорогие товарищи, над святою братскою могилою, шо будем крепко держать наше оружие до самой победы.
После разгрома одного из своих лучших отрядов — батальона Гольдовича — уездная военная власть растерялась и на какое-то время ослабила действия. Колчаковцы спешно собирали силы, разрабатывали новый план борьбы с повстанцами.
Эта небольшая передышка была Федору Колядо как нельзя кстати. Численность его отряда продолжала непрерывно расти, и снова все заботы свелись к одной, и самой важной: чем и как вооружать бойцов?
Тюменцево жило необычно бурно и деятельно. Сельчане создали сельский Совет, председателем избрали Митряя Дубова, заместителем — Илью Суховерхова.
Сельсовет конфисковал винокуровские магазины, лабазы, мельницу, конный завод, дом. Все: его имущество, товары и продукты — было распределено беднякам и семьям, пострадавшим от колчаковской власти. Часть товаров пошла на обмундировку партизан.
В один из дней новая власть, прямо на площади, судила врагов.
Стояли они перед народом опустив головы. Вон Кузьма Филимонов нервно дергает недавно отпущенные усы. Рядом с ним три охранника, жалкие, осунувшиеся. Всех их вместе с Кузьмой захватили в степи. Немного поодаль — писарь и толстый волостной старшина: челюсть отвисла, глазами бегает по лицам людей, должно быть, ищет заступников; рядом сельский староста, чьими руками обиралось село. К нему жмется и беспрерывно всхлипывает Ботало. Так и просидел он в погребе, пока Пашка не привел туда партизан. Один лишь Гольдович держится спокойно. На его бледном лице нет-нет да и скользнет чуть приметная презрительная улыбка. Он стоит отдельно от всех, считая, видимо, что даже перед смертью быть с ними рядом — позорно.
Суд шел недолго: никому не нужно было доказывать вину представших перед народом врагов. Слишком много совершили они преступлений, почти каждому, кто пришел сюда, на площадь, принесли немало горя и страданий.
Дубов называл фамилии преступников, и площадь единым духом отвечала:
— Смерть!
— Смерть!
— Смерть!
Жалели, что не было здесь и других кровопийц, рьяных защитников колчаковской власти: купца Винокурова и старика Филимонова — их спасли от возмездия добрые кони.