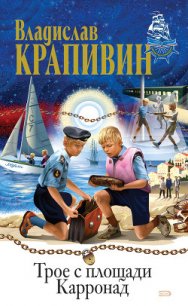Шестая Бастионная - Крапивин Владислав Петрович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
Мокрые цветы
Этот рассказ я начинаю писать неожиданно для себя. Сейчас 9 мая 1984 года, около четырех часов дня. За окном такое весеннее сверкание, такой солнечный праздник, что я говорю:
– Женя, дай листок и карандаш.
Хочется остановить и навсегда запомнить эти минуты.
Мы с женой и младшим сыном Лешкой в гостях у моего друга Евгения Пинаева – моряка, художника и.писателя. Пока женщины звенят в большой комнате посудой, пока Лешка разглядывает африканские раковины, чучело акулы и метровую недостроенную модель фрегата, Женя на расхлябанной своей машинке торопливо достукивает рассказ «Голубой омар». На него накатило вдохновение, как накатывает иногда на любого автора, и он знает, что эти счастливые моменты упускать грешно.
Женя не глядя протягивает мне лист и кивает в сторону громадного, перемазанного красками письменного стола: карандаши там, не знаешь, что ли?
Я подхожу к столу. Большое окно теперь совсем близко, весна как бы обнимает меня. День Победы пришел в торжественном блеске солнца. День Победы и День освобождения Севастополя. Сорок лет назад, ровно за год до окончания войны, словно предсказывая этот неизбежный день, моряки в освобожденном Севастополе подняли над обугленной Графской пристанью наш военно-морской флаг. Сегодня у севастопольцев и у тех, кто как-то связан с этим городом, двойной праздник. Вечером над улицами и бухтами загремит и расцветет особенно яркий, ликующий салют.
Я столько раз видел севастопольские салюты, что сейчас все представляю до мелочей. Представляю последнюю минуту ожидания праздника. Вот-вот раздастся первый залп, и небо немыслимо расцветится, и вода отразит это буйное огненное торжество. Боевые корабли, что вытянулись в линию на рейде, зажгут иллюминацию и как бы нарисуются желтым пунктиром лампочек. И восторженные крики тысяч севастопольских мальчишек взлетят над всеми кварталами. А пока тихо-тихо. Примолкли люди, стоят толпами на крутых берегах и склонах холмов, на причалах и на парапетах Приморского бульвара. Неярко мерцают огоньки Северной стороны.
Деловито мигает красный маяк на равелине у выхода из бухты. А луна, большая и яркая, ярче всех огней, раскидывает желтые зигзаги на черной воде.
Совсем как на Жениной картине, что висит слева от окна.
Картина эта называется «Севастопольский вальс». На ней – ночь, огоньки на берегу бухты. Громадный силуэт крейсера или авианосца с очень выгнутым и срезанным вверху форштевнем. Над тупым срезом форштевня и над крыльями боевой рубки – неяркие сигнальные лампочки. И вообще все огоньки на картине скромные, неяркие. Спокойные. Зато луна – сильная, сияющая. Она прорвалась сквозь темные клочкастые облака и разбросала по зыби отражения-молнии. По этим отражениям скользят еле заметные в сумраке яхты с узкими, склонившимися в плавном крене парусами. Яхты по дуге обходят нависший над ними форштевень боевого корабля…
Это картина-легенда, картина-сказка. То, что написано на ней, на самом деле не бывает. Никто не даст яхтам ходить ночью по рейду, да еще в такой близости от военных судов. Да и нет, пожалуй, таких исполинских крейсеров и авианосцев. Но взглянешь на полотно – и сразу видишь: это Севастополь. Севастополь в самой своей сути. Вся его стальная мощь и южная ласковость, вся суровость крепости и радость моря с его тайнами, парусами и зовом в дальние плавания, который хоть раз в жизни касается каждого из нас…
Лунные зигзаги мечутся по воде, и словно слышишь звонкое эхо от зыби под деревянным настилом Графской Пристани. И стрекот цикад на берегу. И ощущаешь запах водорослей и мокрых камней, легкое касание ночного ветра и тепло, тепло этого моря, этого берега и даже броневых листов, нагретых за день южным солнцем…
И толчком приходит снова тоска по этому городу. И зависть к тем, кто сейчас там, на его теплых праздничных улицах.
…Впрочем, сейчас у нас теплее, чем на Юге. Двадцать пять градусов! А у заборов да кое-где и просто на асфальте еще тянутся валы рыхлого снега.
Утром снега было еще больше. Он лежал даже между прилавками на рынке, где я покупал для мамы цветы. Цветов было – просто завал. Я выбрал две охапки привезенной с Юга сирени – простой и белой. Сирень была мокрая, словно обрызганная крупным дождем. Я ехал на край города в такси, машину встряхивало, и я утыкался лицом в пахучие влажные гроздья.
Среди сосен снегу было по колено, все тропинки завалены. Я с трудом пробрался к низкой решетке. Ладонью сдвинул рыхлый тяжелый пласт. Под ним сквозь ржавую прошлогоднюю хвою, рядом с гранитной облицовкой, проклюнулись стрелки-травинки. Я положил пахнущие неудержимой весной цветы на эту хвою с травинками и прямо на снег. «Вот, мама, я пришел… Девятое мая, мама…»
Мама не была на фронте, но свою капельку в дело Победы внесла и она. Как миллионы наших матерей.
«Весна, мама… А снег – это так, случайность. На Урале бывает всякое…»
Неделю назад, на второй день Майского праздника, ударила великолепная вьюга и сугробы намела такие, каких не было за всю зиму. Улицы сплошь укрылись полуметровым белым слоем – свежим и сияющим. Синоптики, естественно, объявили, что такого явления не было сто лет. Они заявляют это после каждого большого весеннего снегопада (а последний перед этим был в мае восемьдесят первого).
Под невыносимым снежным грузом трещали и падали клены и старые липы. Стояли троллейбусы, вереницами брели по узким протоптанным тропинкам пешеходы… А через три дня опять началась весна. Стремительная весна, какая бывает лишь в кино и сказках. Ударило солнце, ослепительные, не успевшие закоптиться сугробы осели. Прогремели ручьи, бурно ринулась из влажной земли трава, полопались почки. Пришли дни сверкающие, безоблачные, с запахом весенней влаги и зелени
Эта весна – как в песне из любимого моего рассказа «Вокруг света» Александра Грина. Когда-то в юности я даже придумал мотив к этой песне.
Я вспоминаю Грина и мысленно возвращаюсь в Севастополь.
Грин любил этот город. Кто знает книги Грина, тот помнит и его слова, что «некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города». Паустовский же уверял, что дело не в «оттенках», что гриновский волшебный Зурбаган почти целиком списан с Севастополя. И я уверен, что Паустовский прав. По крайней мере, мне казалось не раз, что я в Зурбагане, когда бродил по запутанным улочкам и трапам Аполлоновки и Артиллерийской слободки. Я ходил здесь вместе со старым, ворчливым капитаном Дюком, лоцманом Битт-Боем, доверчивой девочкой Ассоль и маленьким сыном капитана Томом Берингом, который так ждал отца…
Да, Грин любил этот город. Любил, несмотря на то, что именно здесь, на Графской пристани, его арестовали за революционную пропаганду среди солдат. Арестовали обидно, предательски, из-за измены тех, кому он доверял.
На площади Восставших, недалеко от начала Шестой Бастионной, стоит серо-кирпичное здание с высокими железными воротами. Бывшая тюрьма. Здесь Грин провел почти два года.
Грин страдал. Не столько от жестокостей тюремного режима, сколько от самого ощущения неволи. Не раз он думал о побеге. Еще в самом начале заключения друзья готовили ему спасение: купили шхуну, чтобы Грин уплыл на ней в Болгарию, наняли извозчика, который должен был ждать недалеко от тюрьмы. Шхуна стояла в одной из окраинных бухт.