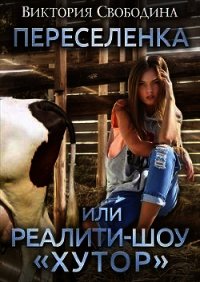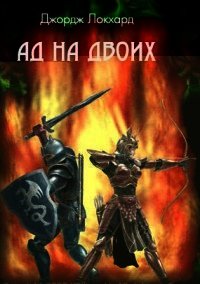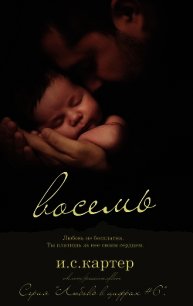Казачья бурса - Шолохов-Синявский Георгий Филиппович (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt) 📗
Землю тоже словно перекроили гигантские ножницы. Крупное землевладение распадалось на глазах, его располосовал, разорвал на части новый, многорукий, ничем не гнушавшийся хозяин-собственник — на том стоял тогда крестьянский крупноземельный мир.
А сад мой, любимый, тенистый сад, словно выщипали безжалостные когти хищника — он поредел, образовавшиеся пустоши заросли болиголовом и крапивой. Отличные, выхоленные отцом сорта яблонь доедала гусеница. Я чуть не заревел от жалости, когда вместо шатровидного дуба, под которым я собирал когда-то желуди и впервые уносился мечтами в незнаемое, увидел неровно спиленный пень.
Я прибежал к отцу с жалобой на неизвестного разрушителя. Отец только поморщился, махнул рукой:
— Нашим куркулям разве дубы нужны или там еще что для украшения жизни — акация, рай-дерево, липа? Им только бы земли побольше.
А вечером на другой день к нам явились адабашевцы-тавричане, недавние приятели отца — Иван Фотиевич Соболевский, Прокоп Хрипливый и Василий Соловей, — и, не рассуждая долго, предложили выселяться.
— Щоб за день выбрався, бо нам ожидать нема расчету. Ломать будемо адабашевскую халупу, — ухмыльнулся краснощекий, по-прежнему веселый Иван Фотиевич.
— Да мне ж собраться надо. За день разве я соберусь? Как-никак, домашний хабур-чабур, пчелы… — попробовал попросить отсрочки отец, но Соболевский только весело захохотал:
— Та який же у тебе хабур-чабур, Пылып Михайлович? На одну гарбу и то класть нечего. Да мы тоби и подподу дамо, тилько будь ласка, уматуйся витциля, пока сычи тоби очи не повыклювалы. А то мы ще жалкувать будемо. Хе-хе…
Прокоп Хрипливый уже вытаскивал из глубочайших карманов широченных шаровар две казенные полбутылки.
— Мы зараз и магарыча за твое здоровье да за твою дорогу, Пылып Михайлович, выпьемо, — осклабился он, — Не трогали мы тебя, жалкували долго. Думали, у нас будешь батраковать. А вже ты не захотив, так що ж тут нам теперь балакать?
Отец не склонен был более упрашивать недавних своих соседей. Он не стал распивать с ними прощальную чару и мелел матери собираться.
Когда тавричане ушли, отец погладил меня по голове, сказал с грустью:
— Так-то, Ёра. Знал бы я, что нас так выпроводят, не вез бы тебя сюда. Не довелось тебе в последний раз побегать по степи.
Не дожидаясь утра, отец и мать стали собирать пожитки. Их было не так уж много, если не считать пасеки. Тот же Иван Фотиевич, так прямо заявивший о выселении, и Прокоп Хрипливый наперебой старались предлагать свои услуги — коней, арбу для перевозки ульев, подводу для домашней поклажи. Откровенные в своей хозяйственной корысти, они хотели поскорее избавиться от последнего адабашевского сторожа.
Отец уже давно знал: тавричане готовятся предъявить ему ультиматум — наниматься к ним в работники или убираться вон — и заранее подыскал в хуторе Синявском, у вдовы-казачки, хатенку. Этим он и был озабочен, везя меня на каникулы. Как видно, переселение в казачий хутор не очень радовало его. Нелегко человеку, когда ему почти пятьдесят лет, обживать новый, такой же чужой угол и чуть ли не заново начинать жизнь. Со всяким, даже неласковым, местом сживается человек, а в Адабашево отцу хотя и было порой неласково, но зато более привольно.
Укладывая на подводу пожитки, мать тихонько плакала, она будто вся изошла слезами, сжалась в комок, стала еще меньше. Сердце мое надрывалось от жалости к ней. Отец, однако, держался спокойно и лишь иногда говорил:
— Что же ты, Варь, то рвалась уехать отсюда в Расею, а теперь хлюпаешь.
Вытирая рукавом опухшие глаза, мать спрашивала:
— Куда? Куда мы едем? На какую новую погибель?
Я старался помогать ей укладывать вещи. Мне вспомнилась встреча отца с Глафирой там, в казачьем хуторе, их недолгий, таивший какой-то скрытый от меня смысл, разговор, и чувство неприязни к казачке разбухало в моем сердце, жалость к матери становилась все более жгучей.
Но к отцу у меня не было неприязни. Чутье подсказывало, что он ни в чем не виноват — его все вправе были любить так же, как я любил его.
Отец привык собираться быстро. К полуночи все ульи с помощью работника Соболевских были погружены на арбу. Пчел полагалось перевозить только ночью, и отец тотчас же, не дожидаясь рассвета, отправил их в Синявский.
Усталый от недетских переживаний, я уснул на узлах только после полуночи. Отец разбудил меня до восхода солнца. Майская розовая заря уже светилась в единственном окошке нашей комнаты. Две мои сестренки — старшая и средняя — еще спали, самая младшая, которой не было года, надрывалась в крике: ей, как видно, не хватало в материнской груди молока — мать совсем ослабела от волнений.
Когда мы вышли из дома, он сразу стал пустым и гулким, как большая порожняя бочка. Отец заколотил ставни, запер на замок все двери. На веранде нас поджидал Иван Фотиевич. Румяное, жирное лицо его сияло простодушной ухмылкой.
После Петра Никитовича он был старостой хутора, и отец без всяких напоминаний передал ему ключи. Подписанная Иваном Марковичем Адабашевым купчая на дом и на все остальное имущество лежала в кармане Ивана Фотиевича.
Адабашевская усадьба перестала существовать.
Отец усадил мать, меня и маленьких сестер на подводу. Я сидел на высоком узле, словно на дозорной вышке, прижимая к себе сонных, ничего не понимающих сестер. Иван Фотиевич и отец на прощание что-то сказали друг другу. Я расслышал только последнюю фразу:
— Старая хлеб-соль забывается, Иван Фотиевич. Забыл ты… Пчелки твои плодятся и носят медок за мое здоровье.
Это был намек: пасека Ивана Фотиевича, начало которой положил отец, благополучно разрасталась, а наша оскудевала. Такие новые пасеки стояли чуть ли не в каждом дворе адабашевцев. Отец оставлял после себя добрую память. И все-таки его выпроваживали, никто не почтил его хотя бы кратким «спасибо», никто не удерживал…
Подвода съехала под гору, поравнялась с садом. Солнце уже взошло и слепило глаза. Я покачивался на узлах и жадно смотрел на сад — единственное место, к которому приросло мое сердце. Сад тонул в лилово-розовом утреннем тумане, от него тянуло дыханием цветения, травяных зарослей.
Отец остановил подводу у опушки, и я, не спросясь, долго не раздумывая, оставив сестер на попечение матери, комом свалился с самой верхушки поклажи, кинулся бежать к саду. Но отец придержал меня за руку, сказал спокойно:
— Не торопись. Пойдем вместе.
Я чувствовал его руку, она была горячая и дрожала…
Мы взошли на зеленую, залитую солнцем опушку, где, чуть накренясь, стояли на заметно осевших и затравевших могилах деревянные ветхие кресты.
У меня заныло сердце. Могилки осыпало майское скромное разноцветье — желтые одуванчики, лютики, стыдливо блестела первая, влажная от росы, чашечка колокольчика.
Отец деловито оправил холмики, выдернул на одном из них нагло вымахнувший куст дурмана, брезгливо отбросил далеко в сторону, постоял с минуту, оглядываясь на дымящийся в балке росными, испарениями сад. Я не двигался, скованный тоскливой жалостью к тем, кто покоился под невысокими холмиками.
— Ёра, — услышал я дрожащий голос отца, — давай простимся с могилками.
Отец первым опустился на колени, за ним — я. Я старался делать все, что делал отец. Он по очереди припадал седеющей головой ко всем четырем могилам, и я слышал, как с каждым поклоном из груди его вырывался глухой, сдавленный стон.
— Дети мои… Прощайте, — выговорил он напоследок, медленно встал с колен и украдкой смахнул что-то с глаз рукавом.
Не спросив, можно ли, я сорвал колокольчик, сунул за пазуху и пустился бежать к подводе. Мать, горбясь на узлах и прижимая к себе девочек, ждала нас… Глаза ее были сухи. Чтобы не расстраивать ее, я ничем не обнаружил своих чувств, до боли закусил губы.
Так закончились для меня эти грустные каникулы…
Свет и тени
Я распрощался с Рыбиными — с Аникием, Марусей, Фаей, Матвеем Кузьмичом и Неонилой Федоровной. Теперь я все время был дома.