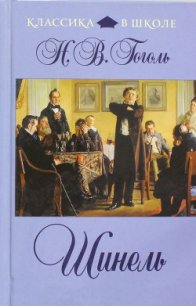Алые погоны - Изюмский Борис Васильевич (версия книг TXT) 📗
ГЛАВА XVIII
«Осенняя песнь» Чайковского
В 21.15 по этажам, поротно, выстроилось училище. Дежурный по училищу подполковник Лободин, высокий и такой широкогрудый, что несколько орденов были почти не заметны на его кителе, гаркнул оглушительно:
— Приступить к вечерней поверке!
Команда перекатами пошла по коридорам, и, словно ей навстречу, устремились отклики из строя: я! я! я! я!
Генерал принимал доклады на площадке второго этажа, там, где сходились пролеты лестниц. Командиры рот сбегали и поднимались к нему, и в напряженной тишине раздавалась скороговорка Тутукина и спокойный голос Русанова.
Оркестр заиграл величавый, торжественный гимн, застыли ряды, и хотя это было не в первый и даже не в десятый раз, но неизменно душу каждого охватывала взволнованность.
Под марш расходились роты по спальням. Уехал домой генерал. Погрузился в темноту актовый зал.
Словно убаюкивая, немного усталым голосом труба сыграла отбой. Еще минут десять затихал шум: где-то внизу хлопнула дверь, кто-то в тяжелых сапогах прошел коридором, и шаги замерли в отдалении.
В спальнях, уже в темноте, воспитанники перебрасывались последними в этот день фразами, скрипели койками, умащивались поуютней, плотнее подвертывали одеяла.
И вот, наконец, уснуло училище, и тишина разлилась но тускло освещенным коридорам. Дежурный офицер заглянул в спальню, щелкнул выключателем. Угомонились… Снова потушил свет и, стараясь ступать бесшумно, спустился вниз, в дежурку.
Володе не спалось. Он переворачивался с боку на бок, сжимал веки и, как учила когда-то мама, представлял, что считает проплывающие мимо дорожные столбы. Но сон не приходил, а сердце сжималось непонятной тоской. Если бы вдруг очутилась здесь мама, села рядом на постель, рукой тонкой и легкой провела по волосам, спросила участливо: «Не спишь, сыночка?» Припал бы к ее коленям и, может быть… и, может быть, не стыдясь слез, поплакал над тем, что нет у них папы, что обидел он, Володя, ни за что, ни про что математика, что не поймет и сам, почему стал таким грубым…
Вспомнилось, как однажды дома он дерзко ответил матери, и тогда отец два дня не разговаривал с ним, не замечал его, пока он не попросил прощения у мамы. Отец в воспоминаниях возникал всегда сильным, справедливым и ласковым. Вот приходит он с завода, в синем комбинезоне с широкими карманами. Подбежишь к нему, а он приподнимет за локти, подбросит и ловит на лету.
— Подожди, сынуля, переоденусь, умоюсь, тогда поиграем.
А перед своей гибелью приезжал в форме летчика, с двумя кубиками. Из-под синей пилотки выбивались на виске светлые завитки… веселые такие…
Володя пошарил рукой под подушкой, нащупал газету с фотографией отца — мама прислала — и, опершись на локоть, попытался рассмотреть портрет. Но полоска света, проникая из коридора через стеклянный верх двери, не доходила до постели, и он не мог ничего различить. Осторожно, боясь измять, Володя спрятал газету и снова прилег.
«Был бы папа доволен мной сейчас?» — подумал. Володя и честно ответил себе: «Нет, конечно…» Но тут же, словно оправдываясь, обвинил Боканова: «Он сам виноват… не узнал, за что я Пашкова ударил… сразу обрушился… хочет, чтобы я перед ним дрожал». И Ковалев решил, что поступил правильно, «проучил капитана», дал ему почувствовать, что не ребенок.
… Нет, видно, не заснешь. Володя бесшумно оделся и в носках, без ботинок, подкравшись к двери, выглянул из спальни. Дневального сержанта на его обычном месте, там, где коридор делал поворот вправо, не было. Радуясь этому, Володя проскользнул мимо опасного места, поднялся, перемахивая через две ступеньки, по лестнице и очутился в актовом зале. По углам его притаились густые тени. Лунный свет, вливаясь в огромные полукруглые окна, проложил дорожки к мраморным колоннам, мертво осветил их снизу. Верхняя часть колонн исчезла в темноте, и от этого они походили на остатки древних развалин. Луч выхватил из тьмы край мраморной доски с неразборчивыми золотыми буквами. Володя знал, на ней написано:
«Железная грудь наша не страшится ни суровости погод, ни злости врага: она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается»
Ковалев остановился у окна. На высоком небе сияла луна, заливая землю неживым синевато-молочным светом. Там где-то, за тридевять земель, за лесами и бескрайней степью — мама. Что делает она сейчас? Наверно, сидит у лампы, пишет письмо. «Родная моя, как тяжело тебе без меня, а когда сказал, что хочу в Суворовское — отдала, желая мне счастья. Милая, хорошая, вот вырасту, буду заботиться о тебе… Посажу в кресло, платком укутаю плечи, прижму твою голову к груди…
Думаешь, не знаю, что в эвакуации ты вставала ночью и руками разглаживала мою синюю рубашку, чтобы наутро пошел в ней в школу?
Думаешь, не знаю, что продала дорогой тебе подарок отца — и отложила деньги мне на завтраки? И сколько бы я ни сделал для тебя — все будет мало, потому что нет еще на свете такой цены, которой можно отплатить тебе и сказать: „Я все сделал…“».
Володя вспомнил, что в зале стоит рояль, и подошел к нему. Одна из лунных полос проходила по клавишам. Он сел за рояль и, приглушая звук педалью, стал играть «Осеннюю песнь» Чайковского — ее любил отец. Володя, при жизни отца, учился в музыкальной школе, а поступив в Суворовское, продолжал брать уроки музыки. Он играл с душой, весь отдаваясь звукам. В темном гулком зале закружились осенние листья, и мелодия, незатейливая и трогательная, потекла по лунным дорожкам.
Чья-то тень легла на клавиши, Володя резко оборвал игру, и песня, жалобно вскрикнув, замерла на полуфразе. Перед ним стоял в шинели, перехваченной портупеей, Боканов, — должно быть, только что пришедший с улицы. Ковалев вскочил и вызывающе выпрямился. Он уверен был — сейчас последует выговор за нарушение порядка, приказание немедленно отправиться в спальню, и приготовился дать отпор, к чему бы это ни привело. Чутье подсказало Боканову — с Володей происходит что-то необычное:
— Я и не знал, что вы так хорошо играете, — мягко и удивленно произнес Сергей Павлович. — Исполните еще что-нибудь, только не громко. — И он облокотился о крышку рояля, положив шапку рядом.
Это было настолько неожиданно, что Володя снова сел. Странно, но появление Боканова не спугнуло музыкального настроения. Володя тихо спросил:
— Сыграть «Баркароллу» Чайковского?
— Пожалуйста…
Когда Ковалев взял последний аккорд, Сергей Павлович снова задумчиво повторил:
— Я и не знал, что вы так хорошо играете. Вы мне доставили большое удовольствие.
Володя покраснел в темноте и, взглянув прямо темными впадинами глаз, выпалил:
— А я думал — вы меня ненавидите!..
— Что вы? — удивился Боканов. — Наоборот, я считаю вас хорошим человеком.
— Какой уже там хороший! — горько скривил губы Володя. — Разрешите идти спать?
— Пожалуй, правда, спать пора… Знаете что, завтра суббота, давайте вечером вместе пойдем в город погулять.
— С удовольствием, — боясь обнаружить радость, сдержанно сказал Ковалев.
— Ну, и хорошо, — договорились.
В дверях Володя обернулся:
— Спокойной ночи, товарищ гвардии капитан.
— Спокойной ночи, Володя…
… На следующий вечер Ковалев и Боканов вышли из парадной двери главного корпуса на улицу. На плацу, напротив училища, выстроился суточный наряд из офицеров и воспитанников.
— По караулам шагом марш! — скомандовал чей-то зычный голос, и по фигуре Боканов узнал Тутукина. Заиграл оркестр. Значит, было минут десять седьмого. Сергей Павлович и Володя неторопливо пошли мимо решетчатой ограды училища.
Застыли силуэты дальних домов, и первые огни затеплились в окнах; штрихи по-весеннему оголенных деревьев проступали топким рисунком на темнеющем небе. В чистом воздухе звенели детские голоса и долго дрожали серебряными струнами.
— Хорошо… — глубоко вздохнул весенний воздух Боканов.