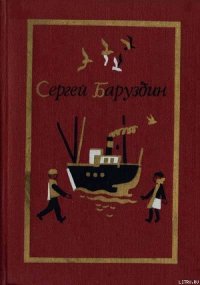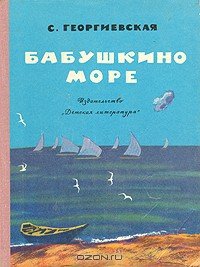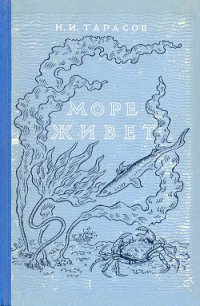Тринадцать лет... - Баруздин Сергей Алексеевич (книги полностью TXT) 📗
Впрочем, затихает оно не всюду. У одного берега — штиль, у другого — шторм. У одного оно в свете солнца, у другого в нахмуренных тучах. Здесь — мерно передвигающее гальку, там — бьющее в скалы. Оно точит берега, подмывает горы, просеивает песок, изменяет карты и жизнь людей.
гремит над всеми пляжами радио.
Говорят, что это японская песня о счастливой любви. Какая тут счастливая любовь? Неужели она такая беспокойная и малоприятная, как песня на этом пляже? А ведь она гремит всюду. И над улицами, и над санаториями, и над домами отдыха, и над одинокими «дикими» отдыхающими! Песня становится порой не песней. Как она, эта песня, попала и прижилась здесь — непонятно. Люди принесли ее сюда, завели, усилили мощными приемниками, разнесли по всему берегу.
Звучит песня? Звучит! Тихая, чуть грустная песня звучит сверхгромко, бодро, вовсе не грустно и беспокоит всех вокруг. Люди отдыхают — она гремит. Люди спят — она неистовствует. Люди думают — она и думать мешает. Зачем ее занесли сюда люди? Зачем?
Море как люди. И люди как море. В чем-то море сильнее людей, а в чем-то люди сильнее моря. Море ведет себя по-разному, как разные люди. Море приносит радость, и море приносит беды. Люди создают новые моря, а иногда они же, люди, губят старые, и все же люди становятся лучше рядом с морем. И море платит им добром и красотой, потому что оно — море! Оно вечно! Оно всю жизнь работает!
Отец возвращался в пять. Иногда раньше, но в пять — обязательно. Сегодня он не пришел и в шесть…
Таня оставила Тошку и побежала в санаторий.
Кабинет отца был заперт, сестра, знакомая Тане, Ольга Михайловна, сказала:
— А разве он не дома? Ушел давно. Может, он у главврача…
У главного врача сказали:
— Был. Ушел. Возможно, он у директора. Он собирался.
У директора:
— Заходил. С час назад заходил. Быстро ушел.
Сестра-хозяйка встретила Таню у бельевой:
— Я его на улице видела, минут двадцать назад. С рынка шел, с цветами…
Она вернулась, взяла Тошку и помчалась в гору. Тошка, чувствуя, что они встретят отца здесь, рвал поводок.
Они нашли отца там.
— Почему ты мне не сказал, пап?
Отец, кажется, смутился:
— Просто сегодня пять месяцев ровно. Вот я и пришел…
— А мне, почему же ты мне не сказал?..
— Зачем, Татьян? Ты… Зачем тебе это?..
Они спускались втроем. Тошка уже не тянул поводок, а лишь посматривал изредка на хозяина, и сопел носом, обнюхивая тропинку, и тяжело дышал.
Облака повисли над горами, начинало смеркаться, и только над морем было солнечно и ясно. Вода серебрилась.
— А они часто гибнут? — вдруг спросила Таня.
— Кто?
— Геодезисты. Это очень опасно, да?
— Да, Татьян, — сказал отец, — часто. Мама как-то говорила, что у них за год больше двадцати человек погибло. Но…
— Что «но», пап?
— Нужно это, Татьян, понимаешь, нужно! Работа эта очень нужна! Понимаешь, очень!
Ночью Таня опять почти не спала. Думала. Это, наверно, плохо, что не спала. Это, наверно, нужно — думать…
А иногда и по ночам слышно море — оно плещется. Легко и таинственно плещется. Не шумит галькой, не грохает волнами, не бьется о берег, а плещется, будто ласкает этот берег. И понятно почему: ведь море — оно такое разное.
Море для каждого свое, и каждый видит его по-своему. Одно море вызывает у разных людей разное: радость, беспокойство, фантазию, грусть, воспоминания, отчаяние, мечту…
А в эту ночь оно еще и ленивое. Ленивое не по собственной лени, а потому, что таким его чувствуешь, потому, что тебя самого одолевает ленивое спокойствие и беспокойные мысли.
Каждый человек видит в море свое море. И это хорошо.
— Татьян!
— Что, пап?
— А тебе не кажется, что ты скучаешь?
Таня скучает? Нет, кажется, она совсем не скучает. Они приехали сюда — это хорошо…
Ее поразило то, что случилось с мамой. Нет, она, конечно, не понимала этого — ни тогда в мае, когда пришла телеграмма и отец в тот же вечер вылетел на Кавказ, ни потом, когда он вернулся, ни еще потом — в июне, июле, августе…
Но тринадцать лет — тринадцать лет. В тринадцать ты уже не маленькая. В тринадцать ты еще и не большая. В тринадцать ты не поймешь, что будет в двадцать три, и в тридцать три, и в сорок три, и в пятьдесят три… И дальше — не поймешь, потому что до этого надо дожить.
— Что ты! — сказала Таня. — Почему я скучаю? И Тошка у нас, и школа…
Тошка действительно был. И школа была — новая школа, к которой не так скоро привыкнешь.
— Нет, я просто так, Татьян! Да и не мне, собственно, принадлежит инициатива. В общем, мальчик здесь есть один, сын нашего рентгенолога. Они тоже недавно сюда приехали, из Еревана, кажется. Говорят, скучает тоже. Ровесник твой почти — в восьмом классе. Мать его говорит: «Вот им познакомиться!» Ну, я и предложил тебе…
В теплые солнечные дни пляж был переполнен. Люди, уже почувствовавшие наступление осени, старались побольше влить в себя солнечного света, надышаться соленым воздухом так, чтобы хватило на всю зиму, и, конечно, побольше побыть с морем.
Море и в эти дни было разное.
Небо меняло цвета моря и облака, плывшие над ним. Горы меняли цвет моря и ветры. Но и не будь их — неба, солнца, облаков, гор, ветров, — море все равно не было бы одинаковым. На то оно и море.
На пляже работала женщина-художница. Не молодая, в шортах, с жилистыми, в синих прожилках, волосатыми ногами, и шляпе сомбреро на голове. Она выходила на пляж вчера, и толпа любопытных окружала ее. Она рисовала море какой-то чернильной краской, неприятно чернильной, хотя море было спокойное и синее и над ним светило солнце. Она вышла на пляж сегодня утром, и опять толпа купальщиков сгрудилась вокруг. Она рисовала море грязными оранжево-зелеными мазками, а море вместе с погодой хмурилось, и белело барашками, и накатывалось на пологий берег пенистыми волнами. Она вышла на пляж и сейчас, после обеда, когда людей почти не было. Море почернело, закиселило, забурлило, а на новом холсте у художницы появились бледно-голубые и желтые тона.
…После школы Таня всегда приходила на пляж. Вместе с Тошкой.
Тошка деловито колесил по гальке, обнюхивал каждый камушек, косился на шум прибоя, а потом, утомившись, ложился рядом с Таней и с мольбой поглядывал на нее: «Поведешь меня купаться или нет? Уж лучше бы ты сейчас одна. А я вечером, когда вернется он…»
Сейчас Тошка был растерян. Отца не было. А Таня пришла на пляж не одна — с Геворгом.
«Идти с этим человеком в воду или не идти?» — размышлял Тошка. Его смущало, что у человека гремит под боком музыка, чего никогда не было у хозяина. И потом то, что он чужой…
— А у нас в школе, по-моему, учителя хорошие, — говорила Таня. — Я, правда, мало их знаю, но мне нравится… Лучше, по-моему, когда сразу нравится в новой школе… А ребята как у вас?
— Что ребята! Подумаешь!
Он без конца крутил приемник. Из приемника вырывались звуки — ревущие, стонущие, какие-то вопли и крики под несуразную музыку.
— Все ерунда! Ничего интересного! А знаешь «Бродягу»? — вдруг спросил он. — Так это сейчас самый модный танец на Западе — «Бродяга-твист». Хочешь, покажу? Это — блеск!
Он встал в позу, взвизгнул, завилял голыми ногами и запел рублеными фразами на мотив твиста: