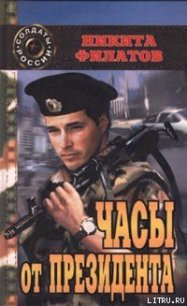На три сантиметра взрослее - Левинзон Гавриил Александрович (книги полные версии бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Я купил билет на итальянский фильм, съел мороженое: подошел к женщине при весах и уплатил мелочь — она меня взвесила и сунула в руку силомер; измерила мой рост, и я пошел в сквер, куда тянуло людей со всей улицы. Я сел на скамейку между старушкой и молодой мамой.
Тут и произошел первый достопамятный случай: какой-то малыш раскрутил шнуром вертолет и запустил его на приличную высоту; этот летательный аппарат, можете себе представить, опустился мне прямо на голову. Проклятая публика загоготала, а я достал расческу, чтобы привести в порядок свои волосы. «Смейтесь, смейтесь! — думал я, высокомерно поглядывая на публику. — Да только все вы уже сегодня будете сокрушаться, что оказались не на высоте или что-то потеряли. Ну, а если случится чудо и кого-то минуют эти беды, так его мелкие мысли одолеют. Что я, не знаю? Я единственный, кто это понял».
Я уселся поудобней: я приступал к новой, осмысленной жизни.
ЗАЩИТНИК ПОСТОРОННИХ
И потому необходимо
Глазами, сердцем и умом
Узреть вовне
Всё то, что зримо,
Вовне,
А не в себе самом.
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
Нужно выйти на наш балкон, взглянуть направо — и вы убеждаетесь, что это восхитительный поворот: когда машины здесь выносит на вираж, лица у шоферов сосредоточенные, и, похоже, кое-кто из них представляет себя гонщиком. За этим поворотом я встречу Наташу… Благодаря стечению обстоятельств.
А пока обстоятельства только начинают складываться.
Мы живем среди родственников и друзей. Невозможно шагу ступить, чтоб не наткнуться на какого-нибудь Твердоступова или Надежду Максимовну, с которыми нужно здороваться, о чем-то говорить, прощаться, передавать приветы — скучища и мука! Я избегаю этих встреч, перехожу на другую сторону улицы или еще что-нибудь изобретаю. Однажды я сел в такси, чтобы только не встречаться с сослуживцем Улановского, который уже лет пять обижается, что я не прихожу знакомиться с его сыном. Никто лучше меня не понимает, какой это идиотизм — убегать от людей. Но что делать? Будем считать, что все началось со встречи с Надеждой Максимовной зимой этого, а может быть, прошлого года.
Надежда Максимовна — давний друг нашей семьи. Я начинаю ей улыбаться еще издалека, но, оказывается, этого не следовало делать.
— Ты, конечно, уже слышал об этом ужасном случае? — спрашивает Надежда Максимовна.
У нее расстроенный вид, мне кажется, она укоряет меня взглядом за мою улыбку. Я киваю, хоть ничего не слышал об «этом ужасном случае». Однажды я признался Надежде Максимовне, что ничего не знаю о том, «выкарабкался ли Родиновский». Я даже не знал, из какой беды выкарабкивается этот бедняга. Да что там! Если уж быть честным до конца, я всю свою жизнь путаю Родиновского с Кабановским. Как она на меня посмотрела! «Ты ничего об этом не знаешь?!» Я понял, что знать такие вещи, — мой долг.
Я киваю, и мне становится страшно, что Надежда Максимовна меня разоблачит.
— Юра, что может быть ужасней!
Я киваю.
— Вы к ним зайдете?
— Конечно!
— Зайдите, зайдите, — говорит Надежда Максимовна. — Ах, боже мой! Я никак не могу прийти в себя.
Надежда Максимовна вздыхает, трясет головой — наверно, прогоняет грустные мысли. Вот и прогнала: она улыбается. Я тоже улыбаюсь.
— Как ты вырос! Мама рассказывала, что ты хорошо учишься. Молодец, молодец! А вот мой Петька опять получил двойку… Да! К вам заходил Твердоступов? Он должен был передать для меня кое-что.
Как на зло, я не знаю. Мне начинает казаться, что знать о том, заходил ли Твердоступов, тоже моя обязанность.
— Кажется, заходил, — говорю я. — Точно, заходил! Меня тогда не было дома. Мама говорила.
— Чудно, — говорит Надежда Максимовна. — Как себя чувствует мама?
— С сердцем в порядке, — отвечаю я. Мама — сердечница, а Улановский — печеночник.
— Чудно. А старик Большов уже на ногах, не знаешь?
Я даже не знаю, чем болен старик Большов.
— Не знаю, — отвечаю я. — По-моему, он уже на ногах, но точно не знаю.
— Рассеянный, рассеянный, — приговаривает Надежда Максимовна. — Ну, да ладно. Я своему Петьке всегда тебя в пример ставлю. Ты правильной линии придерживаешься. Так и надо к Улановскому относиться. Улановский — прелесть. Родной отец к тебе бы лучше не относился.
Все наши друзья специалисты по нашей семье.
Дня через три после этого, а может быть, через неделю, за меня принимается мама:
— Юра, что же ты мне ничего не сказал «об этом ужасном случае»? Встретила сегодня Наденьку, она была удивлена.
Мама долго смотрит на меня. Я молчу, я только делаю жест: забыл как-то.
— Странно ты себя ведешь. Зачем было врать, что к нам заходил Твердоступов?
— Да я не врал. Я сказал: кажется, заходил.
— Нехорошо как получилось, — говорит мама. — Наденька всегда к нам внимательна. Хочу тебе напомнить: вот этот свитер, который ты носишь, она привезла тебе из Риги.
Дальше мама мне напоминает, что муж Надежды Максимовны сделал для нас почти невозможное: добился разрешения перенести могилку моей бабушки с одного кладбища на другое. Иначе бы бабушкиной могилки уже не было — старое кладбище ликвидировали. А как Наденька навещала Улановского в больнице, когда он валялся со своей печенью?..
— Старик Большов, он, кажется, диабетик? — спрашиваю я.
— Юра, у него был инсульт! На твоем месте я бы уже давно его навестила. Он всегда справлялся о тебе.
Я продолжаю шутить:
— А язвенник — это кто?
— Да Наденькин же муж!
— А Наденька? Она печеночница?
— А ну тебя! Тебе бы только ломаться!
Я не тороплюсь навестить старика Большова. Я знаю: мне недостает внимательности к людям, но что делать? Не могу же я претендовать, чтобы у меня было все. Мне недостает еще аккуратности, чувства ответственности и терпения. Может быть, завтра мама откроет, что мне еще чего-то недостает. Я себя подготовил к этому удару. Однажды мама предлагает навестить Большова вместе с ней, я отлыниваю — занят. Мама возвращается домой и сообщает, что старик Большов совсем плох, не приходит в сознание. Я глупо бормочу: «Так я его и не проведал».
На похоронах мне кажется, что кое-кто поглядывает на меня хмуро, наверно, припоминают, что я тот самый, который не навещает больных. Я стараюсь не думать о том, успею ли посмотреть по телевизору футбол. Ко мне подходит внучка Большова, Верочка:
— Юра, ты знаешь, какой он был хороший. За два дня до смерти справлялся, не болит ли у меня сердце. Ты ему нравился.
Я не могу понять, упрекает она меня или прощает мне то, что я ни разу не навестил ее деда. А может, вовсе об этом не думает. Я вспоминаю, как старик Большов оживлялся, когда мы встречались: оказывается, я ему нравился.
На кладбище, когда все уже кончено, мама подзывает меня:
— Езжай домой. Ты, наверно, проголодался? Я пойду к Большовым.
Говорит о еде. Может, так и надо? Я сажусь в трамвай и дома успеваю посмотреть окончание матча. Так, наверно, и должно быть: ведь старика Большова не воскресишь. Проведывать его тоже, наверно, не обязательно было: это мама с Вольтовыми дружит, а я что? Иногда заходил с каким-нибудь поручением. Интересно, тот родственник Вольтовых, что сидел рядом со мной в автобусе, его навещал?
Ночью я просыпаюсь: под окном горланит пьяный. Мне вспоминаются похороны; сейчас я уверен, что должен был навестить больного: нужно навещать всех больных, о каких знаешь. Сейчас это так понятно. Бывает же все так ясно, так отчетливо. Правда, утром все это уже не кажется таким понятным. Навещать всех больных? Это что же, только этим и заниматься?
Но все равно что-то остается от той ночной ясности: я теперь замечаю свою невнимательность к людям на каждом шагу. Очень похоже, как будто кто-то подстраивает: я возвращаюсь домой с покупками и вот вспоминаю, что у входа на рынок видел несчастную женщину. Конечно, это была несчастная женщина, может быть даже голодная: она продавала вилочек капусты. Как можно было пройти и не купить?