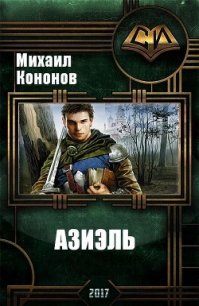Петровская набережная - Глинка Михаил (бесплатные книги полный формат .TXT) 📗
— Да ну, зачем ложиться?
Глядя на Митю, Костя молча ждал. Митя нехотя прилег на землю. Взрывов, вообще-то говоря, он в своей жизни не видел.
Спички с четвертой шнур зашипел. Костя дождался, пока жало огонька втянулось поглубже, и двумя руками отпихнул от себя снаряд. Тот бултыхнулся в воду. Оглядываясь, Костя трусцой прибежал к Мите и упал рядом с ним. Несколько секунд они лежали молча, напряженно наблюдая. Из воды всплывали мелкие редкие пузырьки.
— Наверно, шнур отсырел… — прошептал Костя.
— Да и так бы не взорвался.
— Ну да! Ты бы видел…
— А ты видел?
— Я-то?
Опасаться больше было нечего. Митя привстал на колени.
Белый столб встал из омута как будто бесшумно, но земля подпрыгнула, и в воздухе что-то страшно сломалось. Митю толкнуло в грудь, а края омута уже лезли на берега, и по быстринам в обе стороны понеслась метровая волна, брызгающая пеной при встрече с камнями.
Взрыв в деревне, наверно, слышали, но в тот день в Зарицах остались лишь старики да ребятишки, а все взрослые отправились с утра на сенокос, и потому Костю с Митей никто не уличил.
Сенокос был километров за двадцать, ходить обратно домой каждый день было далеко, и баба Полина всю неделю оставалась там. Митя с Костей один раз, когда туда ездила колхозная машина, навестили ее и привезли ей жареной рыбы.
Баба Полина спросила, откуда такая крупная, и Костя сказал, что попалась в бредень.
— Что ж вы самую крупную мне привезли? — сказала баба Полина и улыбнулась, а они — редкий случай — не обрадовались ее улыбке.
Когда она вернулась с сенокоса, то почти всю рыбу уже или съели, или, что можно было, няня Фрося покоптила. Одним словом, баба Полина их гигантского улова сама не увидела, а ни няня Фрося, ни Митина бабушка, когда ребята стали носить с речки рыбу, ничего как следует даже не поняли. Перед ними на стол можно было бомбу положить, сказать, что это паровой котел, и они поверили бы. Старенькие были уже. А они — Костя и Митя — рыбу принесли не в один день, а носили дня три, притом еще пустились на всякие хитрости, — одним словом, вели себя так, что у Мити за ушами краснело, когда он потом вспоминал.
Но теперь, если Митя выходил на косогор, его одолевали одни и те же мысли. Вся долина Сужи открывалась внизу — все извивы были отсюда видны, все заводи, и, как прежде, безлюдна была речка, да только мерещилось Мите: новое это какое-то безлюдье теперь.
«Это что же мы сделали? — думал он. — Мы что… всех? Все, что было живого в этом омуте… убили? Всех больших, всех средних и всех… этих? Тех, что как маленькие веселые запятые носились по верху омута, теребили еще недавно мою леску, хватали радостно за грузило, за червячка, от которого еще ничего и оторвать не умели… Тех, которые еще только через несколько лет должны были стать рыбинами… И мы их всех одним разом. За что?»
Вниз по речке вот уже который день несло дохлую рыбу. «Но не может же быть, — думал Митя, — что в том омуте больше совсем нет рыбы. Ведь хоть что-то там да осталось…»
Надо было просто прийти туда на рассвете, посмотреть. Надо было убедиться, что это не так. И на следующий день Митя на рассвете в одиночку отправился к омуту. Он и удочку взял с собой: должна же она ему пригодиться.
Еще издали увидел он, что на берегу уже сидит Карлуша: темная спина старика была хорошо видна сквозь легкий туман. «Ну вот, ловит», — подумал Митя, и ему стало повеселей. Подходя, он все время следил за удочкой Карлуши: как ловится? Карлуша раз за разом закидывал и закидывал. Но не клевало и ничего не ловилось. Волшебная удочка превратилась в кнутик дурачка…
На следующее утро Митя в рассветную рань опять стоял на косогоре. Он видел, как появился слепой старик. И все два часа, пока Карлуша бессмысленно закидывал свою удочку, Митя опять то бродил, то стоял невдалеке, страстно желая, чтобы у Карлуши наконец начало ловиться…
И все последующие дни его неотступно тянуло знать: где сейчас Карлуша? Что он сейчас делает? Вот Митя лезет на яблоню — поспели ранние яблоки, — а что сейчас Карлуша? Вот Митя бродит около тока, где молотят зерно, — а что делает сейчас Карлуша? Митя иначе стал смотреть даже на собственную бабушку: она стала казаться ему очень старой.
— Бабушка, а если бы ты сейчас ничего не видела, что бы ты делала?
— Ну, ты бы, наверно, меня водил.
— А если бы меня не было?
— Ну, что это ты говоришь? Как бы это тебя не было…
— Нет, а если бы меня вправду не было, а ты была бы слепая и глухая?
— Вот уж не знаю. Я и сейчас не очень могу что-нибудь делать, а у ж если б была слепа и глуха…
А потом какие-то дела отвлекли Митю — то он ходил с Костей на ток, где под стрекот молотилки две колхозные лошади часами вытаптывали один и тот же протоптанный круг, то рубил на чурке хворост, то они жгли вдалеке на сжатом поле костер из стерни — и оказалось, что Митин отпуск, такой прекрасный, такой интересный отпуск, покатился к концу: бабушка начала понемногу собираться, а баба Полина с Костей опять задумали идти за хворостом.
Как и в прошлый раз, Митя отправился с ними, и, как в прошлый раз, на обратном пути ему опять казалось, что до дома никогда не дойти, и казалось, что, будь обратная дорога длиннее хоть на полкилометра, он бы просто упал. Но опять, как и в прошлый раз, после того как они вернулись, Митя почувствовал особенное право шутить, смеяться и спрашивать обо всем, о чем раньше спрашивать было нельзя. И тогда неожиданно даже для самого себя он задал за обедом вопрос о Карлуше: кто, мол, это такой и что он вообще делает. Хотя кто такой Карлуша, он вроде бы уже представлял. А что Карлуша сейчас делает? Хотя откуда и кому из сидящих за столом это было знать?
Но няня Фрося, оказывается, знала.

— Да его вечор в больницу увезли, — сказала она.
— Как в больницу? Почему?
— Да время, видно, пришло. Годов-то ему сколько уже? Девяносто? Поль, не помнишь? Али девяносто пять?
— Да кто ж его разберет? Амалия-то еще в ту войну померла. Или еще до войны?
— А это уж тебе помнить, я-то тогда жила при них, — сказала она, кивнув на бабушку, и они обменялись с бабушкой взглядами. О чем-то они друг другу постоянно напоминали.
Но Митя сейчас этих взглядов не заметил. Карлуша в больнице — вот что он услышал. Слег. Слег, и его отвезли в больницу.
«Это мы виноваты, — думал Митя. — И это — я». И хотя он, кажется, мог бы понять, что уж если девяностолетний Карлуша пережил войну и эти четыре года после войны, так, наверное, только потому, что его щадила и подкармливала вся деревня… Но сейчас Митя об этом не думал. «Что же я сделал?» — думал он. Но ничего исправить он уже не мог… Ну, допустим, форму бы надел, даже как-то пробрался бы в эту больницу… И что дальше? Что бы он там сказал? О чем мог в больнице попросить? Да как бы смог он даже объяснить самому Карлуше, зачем пришел? Нет, ничего Митя не мог сделать, ничего не мог изменить…
Отпуск кончался. Последние дни пролетели так, словно за утром сразу следует вечер. Вечера были чернущие и, чем дальше, тем короче. С черного неба начали сыпаться теряющие искры звезды.
«Последние дни купаетесь, — вещала няня Фрося. — Вот ужо Илья-пророк льдину бросит…»
А потом «Всесоюзный староста» дал короткий заводской гудок, и пристань в Старосольске махала Мите платками и кепками, пока «Староста» не повернул вместе с рекой. И тогда Митя обнаружил, что знакомого весельчака в этом рейсе на пароходе нет. И это было даже лучше, потому что Митя за прошедший месяц стал другим, а каким — он сам еще не знал. Ему сейчас не нужны были собеседники. Может, кому-нибудь и могло показаться, что Митя дремал на палубной скамейке, но Митя вовсе не дремал, а все время думал, думал и думал.
Такое уж у него наступило теперь время.