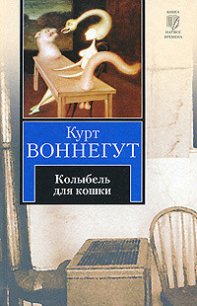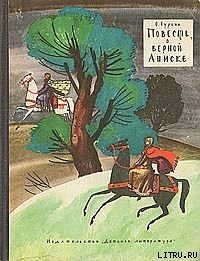Один Рё и два Бу - Гурьян Ольга Марковна (версия книг .TXT) 📗
— По возрасту ты мне годишься в отцы, — сказал Дандзюро. — И в моей молодости ты был один из моих учителей. Без сомнения, играть тебе больше не придется, но ты заслужил почтенный отдых, и я хотел бы, чтобы ты еще пожил.
Затем он послал за носилками и приказал перенести Юмэя в свой дом.
Здесь старик вскоре поправился и остался жить на положении уважаемого родственника и друга…
Итак, искусству театра Корэдзуми обучался у Юмэя.
Сперва Юмэй показывал ему, как входить, садиться и вставать, как подавать и принимать различные предметы. Корэдзуми упражнялся в прыжках и кульбитах, учился актерской манере произносить слова и во всем этом оказывал быстрые успехи.
Но когда настало время соединять отдельные движения в танец, согласовать голос с звуком сямисэна, выражать чувства жестом и позой, учитель и ученик переставали понимать друг друга, будто с разных берегов реки перекликались на различных языках, и ветер уносил в пустоту обрывки слов. То Корэдзуми, внимательно повторяя заученные движения, терял внутреннее напряжение и шевелился деревянно, как кукла в руках неопытного кукольника… То, наоборот, входя в роль, дергался нелепо и необдуманно, так что пропадали красота и смысл. Юмэй терпеливо, в который раз повторял:
— Ни на мгновенье актер не должен терять из виду красоту впечатления, которое он производит, и держать в уме тонкое равновесие между своими духовными и физическими действиями. Пение и танец, различные жесты, изменения лица — все это действие тела. Но мысль объединяет их и управляет всем могуществом искусства. Ты думаешь об этом?
Но Корэдзуми не умел ответить.
Постоянно должен ты держать в мыслях, — говорил Юмэй, — что, играя роль героя, ты сам не становишься героем, а лишь изображаешь его. И если ты играешь старика, ни одного дня не прибавилось к твоим собственным годам. Ты — Корэдзуми, и ли на мгновенье не забывай этого. Но когда ты играешь, ты, оставаясь Корэдзуми, должен чувствовать подобно герою, подобно старику, подобно сосне, подобно бамбуку.
— Я стараюсь, — хмуро отвечал Корэдзуми. — Я не знаю, что вы от меня хотите. Я изо всех сил стараюсь, чтобы вы меня похвалили.
— Если ты хочешь, чтобы тебя хвалили, не стремись вызывать похвалу.
Юмэй гримировал Корэдзуми, сажал его перед зеркалом и заставлял подолгу всматриваться в странно яркое и незнакомое лицо. Дыхание Корэдзуми затуманивало полированную поверхность, взгляд погружался в отраженный взгляд. Чужие черты обволакивали кожу Корэдзуми, прилипая к ней, как кожица персика к нёбу. Нарисованный рот открывался и произносил певуче и протяжно слова роли.
— Кто ты? — спрашивал Юмэй.
— Я мальчик Косиро, — отвечало изображение в зеркале.
Тут Юмэй терял терпение, вскакивал и кричал:
— Ты Корэдзуми, Корэдзуми, Корэдзуми! Сколько раз повторять тебе, что, вглядываясь в грим Косиро, ты должен чувствовать подобно ему, но не превращаться в него, не терять себя и власть над собой. Ты Корэдзуми и только изображаешь Косиро. Ты понял меня?
Корэдзуми встряхивал головой, отгоняя наваждение, и повторял:
— Я Корэдзуми, Корэдзуми, Корэдзуми.
Эта роль Косиро необычайно нравилась ему, и он надеялся, что, когда он овладеет ею, Дандзюро разрешит ему сыграть ее на настоящей сцене, хотя бы по очереди со своим сыном, который всегда исполнял ее.
«Я напомню ему, что спас его жизнь, и он не сумеет отказать мне», — думал Корэдзуми и снова и снова прилагал все усилия, чтобы Юмэй остался им доволен, чтобы он мог похвастаться: «Юмэй меня хвалит!»
Но как это было трудно, и труднее всего было то место роли, где мальчик Косиро решает убить себя, чтобы спасти жизнь отца и честь дяди.
Веками выработанный ритуал самоубийства Корэдзуми разучил до мельчайших подробностей. Десятки раз повторял он движение, которым сбрасывают с плеч одежду. Снова и снова обеими руками почтительно поднимал над головой воображаемый меч, вонзал его в левую сторону живота и сильным поворотом кисти проводил им направо и вверх. Учился, даже в смерти сохраняя достоинство, не падать кое-как, некрасиво раскинув тело, а, сидя, склоняться головой вперед. Всю последовательность движений и поз Корэдзуми знал и твердо помнил.
В этот день в комнату, где они упражнялись, заглянул Ханроку, поклонился, упираясь ладонями в циновку, и так, не поднимаясь с полу, забрался в уголок и сел там. А Юмэй, точно желая похвастаться успехами своего ученика перед единственным зрителем, предложил Корэдзуми разыграть сцену самоубийства не с воображаемым мечом, а с его деревянным подобием.
В то мгновенье, когда Корэдзуми увидел лежащий на столе короткий меч, он вдруг почувствовал странную тошноту, будто душа, поднимаясь вверх к горлу, покидает тело и оставляет его пустым, чтобы другой мог войти и занять его. Невыносимый страх овладел им. Руки и ноги похолодели. Глаза расширились, и деревянный меч вдруг засверкал ослепительно, будто острая сталь.
«Я Корэдзуми», — повторил он мысленно, но уже понимал, что нет Корэдзуми, а на его месте мальчик Косиро, и сейчас он умрет.
Остатками воли он поднял меч. Не в силах смотреть на него, зажмурился и прикоснулся к животу, Ему показалось, что острая сталь вошла в тело Косиро плавно, как палочка в мягкий сыр, и взорвалась невыносимой болью. Перед глазами поплыли красные волны крови. И вместо того чтобы повернуть меч вправо и вверх, Корэдзуми с диким воплем выдернул меч из ужасной воображаемой раны, далеко отшвырнул его и без сознания свалился на бок.
Он открыл глаза и увидел сердитое лицо Юмэя. Так сердит был кроткий, терпеливый Юмэй, что голос отказывался служить ему, и он кричал хриплым шепотом:
— Редька! Бот ты кто! Глупая, бездарная редька! Да если каждый раз, когда тебе придется изображать на сцене смерть, ты будешь умирать — и тысячи жизней тебе не хватит!
Больше он не в силах был говорить, повернулся, ушел в сад и там, бормоча себе что-то под нос, все ходил и ходил вокруг пруда, как пчела, с жужжанием кружащаяся над круглой чашечкой цветка.
Ханроку выполз из своего угла и зашептал:
— О, Корэдзуми, ты был великолепен! Столько чувств отразилось на твоем лице! Я весь трепетал, переживая с тобой эту сцену. Так и хотелось крикнуть: «Я этого от тебя ожидал!»
Корэдзуми мрачно отвел протянутые руки Ханроку и сказал:
— Зачем ты меня утешаешь? Юмэй мной недоволен, и я знаю, что слишком увлекся и играл плохо.
— Ты сыграл хорошо! — с жаром воскликнул Ханроку. — Весь без остатка вошел ты в роль, можно сказать, перевоплотился в образ мальчика Косиро. Признаюсь, я плакал, глядя на твою дивную игру. Если Юмэй недоволен, причину угадать нетрудно. Зависть!
— Зависть? — в недоумении спросил Корэдзуми.
— Конечно, зависть! И боязнь, что Дандзюро лишит его своих милостей, если окажется, что ты лучший актер, чем драгоценное детище Дандзюро. Но мне надо спешить, я убегаю, убегаю. А ты отдохни. О, как я преклоняюсь перед твоим дарованием! — и, быстро поклонившись несколько раз, выскользнул из комнаты.
Когда Дандзюро вернулся вечером, Юмэй подошел к нему и жалобно заговорил:
— Прошу тебя, лиши меня своих милостей и выгони из дому, чтобы я мог со спокойной совестью умереть в придорожной канаве!
Дандзюро нахмурил брови, засверкал глазами и закричал:
— Весь день я топтался на подмостках, пока пятки распухли! Но, видно, не дано мне ни отдыха, ни покоя! Вот, думаю, идет мой друг и ждет меня тихая беседа с умным человеком. А ты открыл рот и извергнешь бессмысленные слова!
— Так, так! — обиженно, но кротко подтвердил Юмэй. — Я старый дурак и ни к чему уже не годен! Ты поручил мне дело, а я не умею его выполнить. Я не знаю, как быть с этим Корэдзуми?
— Что с Корэдзуми? Это хороший мальчик, и он спас меня от смерти. У него самые возвышенные чувства.
— Чувства! — воскликнул Юмэй. — Его чувства вздымаются, как прибой, бьющийся о скалы, разлетаются пустой пеной и увлекают его за собой, как пучок морской травы. Его чувства вспыхивают, как пламя, охватившее сухую солому, и уничтожают его. Его страсти опутывают его, как веревочная сеть. Как ему освободиться, чтобы он мог постигнуть смысл и средства искусства?