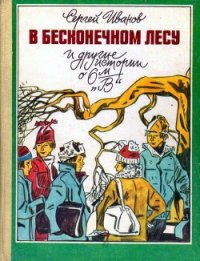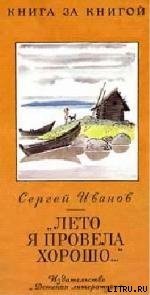Ольга Яковлева - Иванов Сергей Анатольевич (читать бесплатно полные книги txt) 📗
— А это он просил, чтоб я отдала тебе, — сказала Лёля и взяла с книжной полки из-за стекла маленькую тёмно-синюю коробочку. И открыла её. На чёрном бархате лежало тоненькое колечко. В середине сочился огнём прозрачный камешек. Был он очень мал, но лучи от него разбегались остро и весело. Лёля взяла её правую руку, примерила кольцо — велико.
— Ну пусть полежит пока, — сказала Лёля. — Не потеряй!..
Ольга молча взяла драгоценную коробочку. Спасибо сказать было некому…
И тут она поняла, как глупо и как бессовестно было ей обижаться. Но теперь — что поправишь?
Рада бы кинуться со всех ног в тот несчастный день, чтобы всё сделать и сказать по-другому. Да невозможно!.. Рада бы заплакать, рада бы сквозь слёзы просить у него прощения. Да он уже сам её простил!
…Всё на свете можно переделать и поправить — так мы думаем, пока живём удачно и весело. Но ошибёшься раз, другой — так вот, как Ольга ошиблась, — и поймёшь: ничего нельзя в жизни переделывать. На каждый шаг предоставляется тебе одна попытка.
Ей дали кошелёк и сумку — послали за продуктами. Завтра, после похорон, будут поминки. Ольга шла покупать сыр, колбасу и всё другое.
Потом, когда вернулась, они втроём — мама, Лёля и она — попили наскоро чаю в кухне. Мама сделала всем по два бутерброда, отрезая куски от поминочной колбасы, и от поминочного сыра, и от поминочного масла. И вкус у всего этого будто был какой-то особый. Но, конечно, на самом деле обычный вкус.

Вдруг мама отложила бутерброд, руками всплеснула:
— О господи! Чего сделать-то забыли!
Она пошла в большую комнату (Ольга за ней) и стала закрывать белой простынёй трюмо. Так всегда, оказывается, делают на похоронах. Но простыня вся была мятая. Вернее, не мятая, а такими квадратиками, как лежала сложенная в шкафу. Тогда, не доев бутерброды, Ольга взялась гладить. И ни Лёля, ни мама не стали говорить ей, что, мол, пойди поешь. Не до того было!
Потом — когда уже сильно смеркалось, но они всё ещё сидели без света — стали приходить люди. Они все бесшумно раздевались, здоровались тихим-тихим шёпотом, и Лёля провожала их в кабинет. А через несколько минут человек выходил оттуда, надевал пальто и «собачка» тихо щёлкала. Они приходили прощаться с Борисом Платонычем.
А назавтра опять пришли эти люди и ещё много других. Ученики просто затерялись среди них. В квартире было непривычно тесно. И очень часто звонил телефон. Кто-нибудь сейчас же поднимал трубку и тихо говорил:
— Алё, здравствуйте… Да, да, сегодня в два часа дня. В крематории.
В час дня Лёля сказала громко:
— Ну, пора, товарищи!
Все пошли в огоньковскую комнату и в большую, чтобы освободить проход. Ольга стояла в дверях кухни. Уже было решено: она поедет. Мама не хотела пускать, а лётчик сказал:
— Нет, Настя, пусть проводит! И вопрос решился.
Понесли. Впереди шёл Женя — тот ученик, который будет книгу дописывать. Он плакал, и одновременно ему было тяжело тащить. Длинные вьющиеся волосы упали на лоб.
Поехали четырьмя автобусами. И ещё много сзади машин — «Москвичи», «Волги». Ольга ехала во втором автобусе. Среди совершенно незнакомых людей. Но все они были не чужие ей. Кто-то её подсадил на высокую подножку. А другой сказал:
— Иди сюда, — и усадил у окна.
А ведь, значит, она ошибалась тогда, что у старика ботаники мало друзей — несколько близких учеников. Нет, куда больше народу уважало Бориса Платоныча. Ехало четыре автобуса, а могло быть и ещё столько же! И правильно! И не может быть по-иному!

И вдруг Ольга заплакала, не видя никого вокруг. И в то же время стараясь плакать понезаметней, потише. Плакала, уткнувшись в милую козлиную свою шубку.
Впервые за всю жизнь плакала она по-взрослому. Плакала о том, чего уже никогда не сделать и не вернуть.
Никогда уже не извиниться перед ним, и никогда не услышать доброго его голоса и доброго, мудрого его совета или хотя бы самых простых слов о снежном дне или о солнечном вечере. И никогда уж с ним не поздороваться…
Она вышла последней, когда уже шофёр ей крикнул, и оказалась в самом хвосте. Просто стояла в уголке за колонной, на берегу огромного высокого зала, полного молчащих людей.
Но вот пришёл и самый последний срок. Женя и ещё другие люди подняли гроб и понесли…
И тут кто-то взял её за руку. Лётчик.
— Туда тебе не надо ходить, строго сказал он. — Правда не надо… Ты его проводила, подумала обо всём, верно?..
Он уговаривал, уговаривал её, а она и не сопротивлялась. Только уже на улице вдруг вздрогнула, дёрнулась назад: вспомнила, что за эти два дня она так ни разу и не взглянула на… на него.
— А знаешь, — спокойно сказал лётчик, — и очень даже хорошо. Значит, живой в памяти останется. А там что смотреть-то? Всё равно же нечего. Там одно тело хоронят. А человек остаётся. Человек же никуда не денется!
И всё-таки он делся, этот человек, делся — что там ни говори!..
Когда расходились с поминок, Лёля Познанская каждому давала горшок с цветком — память о старике ботаники.
На следующий день Ольга пошла в школу.
Сначала и Наталья Викторовна и все обращались с нею так тихо, будто она в больнице. Ольга каждую секунду чувствовала своё горе, и ей было одиноко без мамы, без лётчика, без Лёли, без учеников — без всех, с кем она как бы немного породнилась во время похорон.
Глаза её полны были слёз. А вчерашнее стояло совсем рядом, как мороз за только что захлопнутой дверью. Домашнее задание Ольга, конечно, не делала — мама дала ей записку. Весь первый урок она сидела, будто в стеклянном колпаке — никто до неё не дотрагивался, и она ни с кем. Даже на перемене дежурные не выгоняли.
И вдруг в середине второго урока её вызвали к доске. Ольга встала и посмотрела широкими глазами на учительницу.
— Ничего, — сказала Наталья Викторовна, — иди. Это старый материал (был русский язык), иди отвечай. Ну что же нам теперь делать? Очень жалко Бориса Платоновича. А всё равно учиться надо!
Ольга пошла, остановилась у доски, взяла мел. Наталья Викторовна начала диктовать. Это был коротенький словарный диктант, слова все известные. Потом надо было сказать, почему эту букву написала, а не другую, какое проверочное слово, если оно есть. Потом другое упражнение: найти в словах ошибки. Это даже интересно. Стоишь, а в руках у тебя красный мел, как учительский карандаш.
— Ребята, кто поправит Ольгу? — строго спрашивает Наталья Викторовна. — Верно, Слава! Ещё что?.. Нет, Лазарева, не верно!.. Есть ещё у Яковлевой ошибки? То-то же! Была всего одна ошибка. Садись, Ольга, четыре.
Она взяла дневник. Нести его назад, к себе за парту, было приятно. Вдруг подумала: «Вот и первая отметка после него». Теперь Борис Платоныч как будто бы стал ей ближе. Раньше она могла и по нескольку дней его не вспоминать. А теперь с каждой мыслью приноравливалась к нему.
Прошёл второй урок, третий. Сперва Ольге всё казалось, что она вся, как фарами, освещена любопытными взглядами второго «В». И чувствовала себя неловко, неуютно, будто новенькая, будто чужачка. И помнила, каждую секунду помнила про Бориса Платоныча.
Но скоро… Как тут сказать поверней? У школы, у класса столько ведь своих новостей и событий! На каждой перемене новое происшествие. И вот уж, считай, всеми забыто, что ещё вчера она ехала в автобусе с чёрной полосой и потом слушала в высоком темном зале печальный голос скрипки… И потом вышла на яркий свет, и почувствовала слёзы на холодных щеках, и вспомнила, что даже не взглянула на него.
Но будто это всё давным-давно было. А теперь идёт совсем иная жизнь. Вот уже стоит перед нею Женька Широков. Щёки его пылают, как две свёклы, и он преспокойненько ругает Ольгу, что у неё под партой вечные бумажки. А потом из-за неё, мол, плетись на каком-нибудь пятом или шестом месте среди октябрятских групп! Ох этот Женька! Всегда он такой противный!