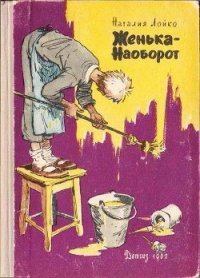Ася находит семью - Лойко Наталия Всеволодовна (читать книги без сокращений txt) 📗

— Столяр — это артист, это художник. Это не то что плотник, который только и знает, что топор, да долото, да грубый рубанок.
Верно! Артист и художник. И ребята хотят стать такими. Они должны не только отремонтировать мебель, а сделаться заправскими мастерами. Знающими. Например, изучить свойства дерева, древесины. Технические свойства. Твердость, крепость (представьте, это совсем не одно и то же), вязкость, упругость, раскалываемость.
А девчонки и без этого проживут.
Феде бы радоваться больше всех — у него золотые руки. Так о нем сказал Каравашкин, когда в начале зимы из прогнившей заборной доски Федя соорудил очень удобного вешалку для своего дортуара. И Татьяна Филипповна так считает — насчет Фединых рук, — говорит, что у Феди и глаз хороший, такой, какой нужен, например, закройщику. Однако Федя не радуется. Он думает о Татьяне Филипповне, которая всегда требует, чтобы в ее мастерской мальчики работали наравне с девочками. И не только потому, что работы на всех хватает, а и потому, что труд из любого неслуха делает человека.
Неужели Каравашкин не замечает, что с девочками поступили, как при старом режиме? Хорошо бы заметил и послал к ним на этаж хотя бы Шурика Дедусенко. Мог бы и Федя сбегать. Но сам, по собственной воле, он ни за что не пойдет, он не девчатник.
Нет, сегодня Николаю Гавриловичу ничего не заметить. Ничего он не видит, кроме своих инструментов. Вот Ксения, та бы сразу учуяла. Сразу бы навела порядок. Но она второй день сидит в райкоме на конференции.
— А ну пусти, — сердито сказал Федя и, заставив посторониться Паньку, стал пробовать, как действует центральное сверло. Хорошо действует! Так бы и сверлил до самой ночи…
Но Феде не дали насладиться сверлом. И кто не дал? Нистратов! Вошел, шаркая глубокими галошами, протер кончиком вязаного шарфа пенсне и давай поглаживать свою седую бородку. Откуда он узнал о сегодняшнем событии, неизвестно, ни пришел посмотреть, увериться.
Мальчики притихли: все-таки заведующий домом. А он словно забыл, что он самый главный. Вдруг заморгал, застеснялся и стал просить у Феди сверло.
— Можно, я просверлю дырку?
— Не дырку, а отверстие, — дружно поправили мальчики.
Нистратов, не заметив, что в мастерской нет ни одной девочки, схватил инструмент и давай сверлить. Нельзя сказать, чтобы у него были золотые руки, они у него какие-то непослушные. А он все твердит: «Физический труд — моя слабость». Вот именно слабость…
Летом можно было со смеху помереть. Вынесли решение, чтобы в парке не пропало ни одной травинки. Скосить все до одной! Для этого попросить у Наркомпроса три, а то и четыре косы. Получили две, пришлось обойтись ими. Лазаретной корове требовался корм, детям — трудовые процессы на свежем воздухе.
Воспитательницы, конечно, пугались косы, потому что она — острый предмет. Ксении и Татьяны Филипповны еще не было в детском доме, и Нистратов сказал: «Я обучу детей!» — и старался изо всех сил. Правда, когда он брался за косу, при каждом взмахе его почему-то непременно заносило назад, поворачивало кругом направо. А пенсне так и прыгало на черном шнурочке, будто посмеиваясь.
Прошлым летом детдомовцы были совсем дикарями и приохотить их к делу было почти невозможно. Не то что теперь…
Каравашкин рад приходу Нистратова. Он уважает его за ученость, за то, что с ним можно потолковать о тайнах природы, о том, что было многие тысячи лет назад и будет через миллион лет. Каравашкину лестно, что такой образованный человек хочет подучиться столярному делу, лестно, что он тоже считает столяров артистами и художниками и просит порассказать о мебельной фабрике.
— Помню такой замечательный случай… — начал Каравашкин.
Однако случай остался никому не известным. Скрипнула дверь мастерской, и четверо ребятишек кинулись к Каравашкину.
Младший закричал:
— Папка!
Может быть, Каравашкину следовало смутиться, подать Зине знак, чтобы увела всю мелюзгу, но он подхватил своего Ленечку, дал ему целую охапку стружек, таких же белых, кудрявых, как Ленечкины волосы, и сказал остальной своей команде:
— Идите-ка, поинтересуйтесь… — Нистратову он пояснил с полным спокойствием: — Сегодня ведь праздничное занятие, внеочередное.
Затем Каравашкин достал из кармана платок, чтобы вытереть Ленечке нос, а заодно и обоим близнецам. Этот человек не боялся насмешек, он поступал так, как считал нужным. Старшей дочери он подал буравчик:
— Ну-ка, курносая, поучи молодых людей.
«Ага, Зинка обучена. — Федя окончательно потерял равновесие. — Подумаешь тоже — курносая. А если другие совсем не курносые, а, не в пример ей, глазастые, значит, не подпускай к инструменту? Когда я в День Великой Порки уступил Асе свой ножичек, она не хуже, чем Зинка сейчас, раскраснелась и высунула язык. Не дразнилась, а от старательности. Это неправда, что Ася трудновоспитуемая. Неправда, что все девчонки безнадежно отсталые. Им только не надо слоняться без дела. И отталкивать их не надо…»
— Вот что, ребята, — громко произносит Федя, — вы как хотите, а я пойду позову.
Он мог бы просто скользнуть за дверь, вызвать из дортуара Катю Аристову и договориться с ней, чтобы девочки прибежали в мастерскую как бы невзначай, сами по себе. Мог бы! На то и обманный день… Но Федя решил поступить так, как считает нужным.
Единственно, в чем он позволил себе быть неточным (все-таки первый апрель!), это когда, возвратись вместе с девочками, приглашая их войти, твердо провозгласил:
— Вас тут давно ожидают!
19. Асе не спится
В комнате темно. Издалека доносится песня про мир безбрежный, который залит слезами. Это поют в зале. Там первомайский вечер, там все детдомовцы, нет только Аси и Кати. Разве не обидно? Руководитель хора, вторая скрипка Большого театра — вот кого раздобыла Татьяна Филипповна! — сам проверял их голоса. Ася — попрано, Катя альт. Разве они не разучивали песни вместе со всеми? Разве не приводили в порядок зал, не обтирали колонны, стараясь дотянуться повыше? И что же? В самый разгар веселья приходится лежать вдвоем на узенькой койке в комнате дежурного персонала. Сюда в дежурку их втолкнула рассвирепевшая Ксения, как только последний из иностранных делегатов скрылся за поворотом коридора: «Осрамили наш дом перед всем Третьим Интернационалом!»
Катя хотя и обиделась, но уснула. Ася же никак не успокоится, перебирает события дня.
Праздник начался с завтрака, даже раньше — уже когда бежали в столовую. Все были в новых нарядах: мальчики в голубых полосатых рубашках, девочки в платьях из такого же ситца. У каждого празднично белел воротничок или торчал из кармашка платочек — все подарки Вариной фабрики. У Аси в волосах трепыхался белый шелковый бант.
В столовой протерты окна, вымыт пол. По тарелкам разложены манные котлеты, в кружках дымится какао (на молоке!). Поднос полон куличиков. Куличики один к одному, но все же их стали делить, как делят хлеб. Дежурный по столу отвернулся, а Вава Поплавская ровным голосом — обязательно ровным, не то подумают, что она подает дежурному знак, — спрашивала:
— Этот кому?
Разобрали куличики, и стало так тихо, что Ксении смогла обратиться, с приветствием сразу ко всем столам. Сейчас, вечером, Ася, конечно, ненавидит эту Ксению Петровну, которая наказывает, не разобравшись, но утром та ей очень понравилась. Она впервые была без куртки, в светлом платье, с красным революционным бантом на груди. Подумать только, Асе она показалась такой славной, такой хорошей!
Ксения сказала, что Первое мая девятнадцатого года особенное — тридцатая годовщина! Тридцать лет назад Международный Парижский Конгресс установил этот великий пролетарский праздник. Свою речь Ксения закончила, как и полагается в такой день:
— Да здравствует мировая революция!
Все, кто успел прожевать, кричали «ура». Ася успела.