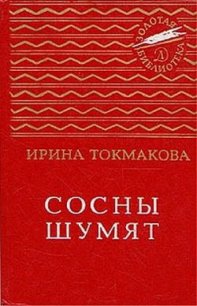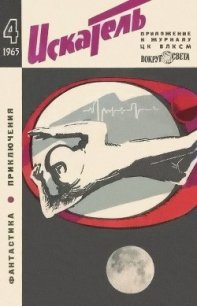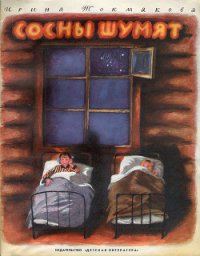Повесть о юнгах. Дальний поход - Саксонов Владимир Исаакович (читаемые книги читать онлайн бесплатно txt) 📗
Глава четвертая
— Товарищ капитан-лейтенант, юнга Савенков на занятия прибыл.
— I’m sorry, — сказал командир, — just a moment [1].
Он сидел за столом без кителя, в майке, и ковырял отверткой в каком-то небольшом гражданском приемничке.
Первый раз я видел командира таким домашним.
Капитан-лейтенант встал, положил в тумбочку приемник и отвертку, надел китель и застегнул его на все пуговицы.
Я в это время незаметно осматривался. Нет, фотографий не было. Приходил я сюда, в офицерскую гостиницу, и раньше и знал об этом, но сейчас, когда увидел командира в такой вот обстановке, опять подумал, что она непременно должна быть — фотография его жены и детей. Стоит, например, на тумбочке… Нет, не видно. Не хочет ее ставить здесь, в американском отеле?
— Sit down please [2],— сказал командир.
— Thank you [3],— ответил я, усаживаясь.
Командир сел напротив.
— Выучили?
— Так точно.
Я раскрыл книгу — «Остров сокровищ» на английском языке. Когда мы едем к нашему военно-морскому атташе или к Прайсу, я ведь не просто вожу портфель командира. Конечно, если начистоту говорить, у меня во время этих визитов других обязанностей нет. Но если бы просто возил портфель, зачем бы тогда капитан-лейтенант стал заниматься со мной английским? В увольнения редко теперь хожу… Как день увольнений — так у меня занятие. Иногда я думаю: не для этого ли и английский? Неужели боцман ему рассказал, как я сидел на подоконнике? Да нет, не может быть! Настоящий моряк должен знать английский. Ду ю спик инглиш, товарищ боцман? А командир объясняется без запинки, так что Прайсу переводчик не нужен.
— Разрешите вопрос, товарищ командир? — решился я все-таки.
— Да.
— А что такое лонг тайм агоу?
— Long time ago — лонг тайм эгоу. Повторите.
Я повторил.
— Давным-давно, — сказал командир. — Примерно так эта фраза переводится. Где вы ее прочитали? В книжке, кажется, нет.
— Слышал, — сказал я. — В одной песенке…
На столике у окна зазвонил телефон.
Командир встал, подошел к столику и снял трубку. Разговаривал он на английском. Я понял, что звонит Прайс, коммодор. В воскресенье-то! Теперь я тоже стоял — раз капитан-лейтенант поднялся. Ждал, когда разговор кончится.
Командир повесил трубку; помедлив, обернулся. Лицо у него сразу и как-то надолго светлеет, когда он улыбается, но складка у рта… эта складка… она остается.
— Как там наш боцман? Совсем затосковал?
Я растерялся.
— Да вроде незаметно…
— Конечно, — усмехнулся командир. — Если приглядеться, разве… Занятия придется отставить. Завтра будем принимать корабль.
Минут через двадцать мы уже поднимались на третий этаж отеля «Альказар»: командир и Прайс, а за ними, на две ступеньки пониже, я.
Коммодор перехватил нас по дороге из офицерского отеля и подвез в своем «джипе» — машина, конечно, служебная, а не его личная, — но не в этом дело. Прайс мне сегодня понравился. «Джип» он вел небрежно так и здорово: оперся локтем левой руки на баранку, в правой — сигарета, а сам жмет… Длинное лицо Прайса посечено морщинками, в бровях седина, на плечах погоны, но за баранкой он был парнем, который радовался, что первый сообщил нашему командиру приятную новость.
Меня этот парень по-прежнему не видел, ну и пусть — все равно он мне сегодня нравился.
Командир был светел и спокоен. И чуть-чуть холодноват.
Когда «джип», качнувшись, встал как вкопанный у подъезда «Альказара», капитан-лейтенант предложил Прайсу зайти в наш кубрик. Тот сразу согласился. Я хотел было проскочить вперед — предупредить наших, но увидел глаза командира: нельзя.
В коридоре сразу услышал арию Фауста. И как только Андрею не надоест?
Мы подошли к нашей двери.
Командир открыл ее, уступил дорогу Прайсу и шагнул за ним.
— Смирно! — услышал я голос дневального.
Патефон замолчал.
— Вольно.
Я тоже вошел в кубрик. И сразу вспомнил: «Если приглядеться». Мне легко было сейчас приглядеться не только к боцману, ко всем нашим, потому что я вошел вместе с начальством и, стоя у двери, смотрел на ребят вроде бы со стороны.
В кубрике опять пахло одеколоном и каленым утюгом, окна были раскрыты, и казалось — уже начинает смеркаться. Но тут я понял, что это не смеркается, это такие лица: ведь два месяца в Америке. Они стояли в номере, который называли кубриком, — катерники с чисто выбритыми лицами, и смотрели на командира, ждали, что он скажет.
Он сказал:
— Ну, вот, товарищи. Завтра принимаем корабль.
Я видел, как Пустотный передохнул, поискал глазами: какой бы учинить аврал? Моргнул, нашелся:
— Отставить увольнения. Собираться надо…
— Домой, — сказал Федор.
— Сначала здесь освоим…
— Все равно домой.
Заговорили все разом.
Я шагнул от двери — хотел быть с ними. И заметил, что в глазах у Прайса что-то включилось. Он смотрел на Андрея, недоверчиво приподняв седые брови.
В кубрике гомонили. Боцман о чем-то совещался с командиром. И все удивились, когда вдруг услышали голос Прайса:
— Собиноф?
Теперь у Андрея брови полезли наверх. Он ответил не сразу.
— Да, Леонид Витальевич Собинов.
Мы смотрели на американского коммодора. Знает!..
Прайс неопределенно повел рукой.
— Разрешите, товарищ командир? — спросил Андрей.
— Да, пожалуйста.
Прайс понял. Он шагнул к столу, выдвинул стул, сел, закинув ногу за ногу. Потом снял фуражку, положил ее рядом с патефоном. Пока Андрей заводил патефон и ставил пластинку, коммодор что-то быстро говорил капитан-лейтенанту.
— Коммодор Прайс очень любит голос нашего Собинова… Коллекционирует записи теноров, — перевел капитан-лейтенант. И улыбнулся по-своему, добавил: — Удивлен.
У Андрея было такое торжественное лицо, будто сам собирался петь. Он поставил мембрану.
«Ах ты черт возьми! — удивился я. И повторил про себя — Ах ты черт…» Вдруг встало перед глазами: Костя сидит на рундуке, вытирает со лба пот, на плече у него сквозь бинт проступает пятно крови. Сначала просто увидел, просто в который раз почувствовал, как мы далеко от дома, а потом вспомнил — здесь, в Америке, было что-то очень похожее и совсем, совсем другое: бисеринки пота на лбу, платок в пальцах… Джон Рябинин, вот что! «Есть яхта… Я уверен, лучшая в мире жена… Иес»… Ах ты черт! — замер я. Русский Собинов пел арию немецкого Фауста. Русский матрос, раненный в бою, вытирал со лба пот, а за ним вставала Россия… Этот матрос — живой человек, я ведь с ним говорил! Он свои ордена, чтобы не поцарапались, носит винтами наружу. Он мечтал о дальнем походе и не хотел ложиться в госпиталь, но явился туда, к «сестричкам», одетый по форме, а не как-нибудь. Он ругался с боцманом, своим лучшим другом. Они не сумели даже толком попрощаться.
Я посмотрел на Пустотного. Боцман стоял задумавшись, крупные губы подобрели. Может быть, казалось так? Нет. Я знал теперь, что бывает не только «второе дыхание» — «второе зрение» тоже. Иногда… А потом все вроде по-прежнему.
Пластинка кончилась. Прайс встал, чисто выговорил:
— Спасибо.
— Пожалуйста, — ответил Андрей.
Они ушли. А мы стояли молча и слышали, как Прайс, шагая по коридору, насвистывает арию Фауста.
Утром перебрались на корабль.
Вот это кубрик! Вдоль бортов тоже койки. Нет, отделения для постелей. С деревянными бортиками, чтобы матрацы не сползали. И каждое отделение задергивается занавесочкой. Надо же…
Я оглянулся.
Рядом с трапом, правее от него, ослепительно белела широкая раковина умывальника. Над ней большое зеркало. Боцман стоял, глядя на свое отражение. Заметил, что я смотрю, часто заморгал, отвернулся.
1
Извините, минутку.
2
Садитесь, пожалуйста.
3
Благодарю.