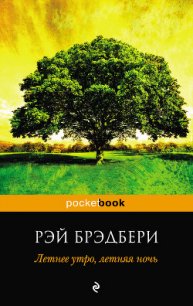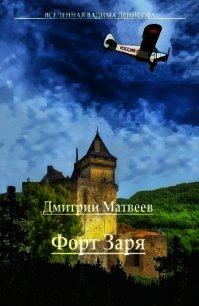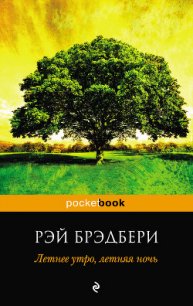Аринкино утро - Бодрова Анна Григорьевна (серии книг читать бесплатно .txt) 📗
Народу набралось столько, что Яшу вместе с его столом втиснули в самый угол. Дубовый стол, упёршись углами в стены, стоически выдерживал непривычный для него напор. Кассиром Яша был неопытным, всё боялся обсчитаться, деньги считал медленно, а люди напирали со всех сторон, их протянутые руки мельтешили у него перед носом. Он сердился и всё время кричал:
— Ну что вы за народ такой! Чего деньги суёте все разом, станьте в черёд. Всем отпущу билеты...
Костя предупреждающе поднял руку:
— Прошу во время спектакля соблюдать тишину. Не переговариваться. Я ещё хочу сказать, может быть, у кого из вас появится желание узнать, куда мы будем девать деньги, полученные за спектакль? Отвечу сразу: деньги нам нужны на реквизит для будущих спектаклей.
Никто не понял этого слова, но все оценили высокое его назначение.
— Ча-аво там о деньгах толковать.
— Велики деньги-то.
— Раз нужно, значит, нужно, — поддержали с места.
Наконец занавес открылся. Наступила тишина. Вытянув шеи, с напряжённым вниманием слушали и смотрели, что делается на сцене. Каждый забыл о том, что сидеть ему тесно и неудобно, что стоять и перекидывать тело с одной ноги на другую ещё хуже, что в задних рядах почти ничего не видно и не слышно. Никто не роптал, все были довольны.
Но вот во время действия произошло непредвиденное. Дед Гаврила сидел в первом ряду, совсем рядом со сценой. Его внук, Ефимка, играл главную роль в спектакле, и деду очень хотелось похвалиться своим Фимкой, он смотрел внимательно. Лицо его, заросшее густеной дремучей бородой и повисшими усами, было неподвижно. Только маленькие глазки, глубоко сидевшие под лохматыми бровями, выглядывали как мышата из копны сена. Они были живыми, по-молодому бойкими. И вот дед Гаврила усмотрел в спектакле что-то не совсем для его души приемлемое. Он заволновался, заёрзал на месте. Всё его громадное тело заколыхалось, словно горячие угли под него подложили. А когда по ходу действия в спектакле Ефимку стали избивать, дед не выдержал и взревел:
— Да што ш ты, Фимка, собачий сын, дозволяешь себя при всём народе по харе бить? Аль дед не учил тебя, как надобно сдачу давать?
Все зашикали, подскочил Костя, стал его урезонивать:
— Это же роль такая, дед Гаврила.
— Пошто такую роль брал? Нече такие роли брать, где тебя по мордам лупцуют. Нас, Мясоедовых, ещё в жизни никто не мордовал! А тут... — Дед опять выругался: — Опозорил, собачий сын! Вертайся домой, я те покажу роль...
Как ни пытался Костя утихомирить его, но дед заартачился и не захотел больше смотреть спектакль. С трудом пробиваясь сквозь плотно стоявших людей, он шёл и всё ругался. Страшный гнев, пламенем охвативший Гаврилу, сопровождал его всю дорогу. Когда же пришёл со спектакля дядя Ваня, отец Фимки, он коршуном налетел на деда:
— Ты што ш это, батя, опозорил своего внука на весь честной народ! Я сидел, не знал, куды глаза девать, лучше б мне провалиться сквозь землю!
— Не я — он нас опозорил, кошачий сын! — вскинулся дед. — По харе при всём народе дозволил себя лупцевать! Тьфу!..
— Вот темнота! Как есть темнота! Дык ведь роль такая у Фимки. Иль ты совсем в этом деле не кумекаешь? Шпектакль ведь это, соображать надо! Маманя, нет, ты послухай только, што наш батя отчебучил на шпектакле-то. — И дядя Ваня подробно и красочно описал поведение деда Гаврилы на спектакле. Бабка Лукерья близко приняла к сердцу всё сказанное сыном. Трагически всплеснула руками, наигранно плаксивым голосом затянула:
— Эх ты, старый дуралей, сидел бы уж лучше дома, коль не смыслишь ничао. И прям опозорил Фимушку: теперича засмеют его робята, вдребезги засмеют. Ох ты, анчутка этакая!..
Дед Гаврила не выдержал двустороннего нападения, рьяно грохнул кулаком по столу:
— Буде, хватит! Раскаркалось, вороньё! Опозорил, опозорил. Ещё вопрос, кто кого опозорил! — не сдавался он. Но где-то в глубине души чувствовал, что и впрямь, кажись, маху дал. Чёрт его за язык дёрнул, сидел бы тихо, как все люди добрые, а теперь вот будут языками чесать. И получается по всем статьям, что не Фимка его, а он Фимку в конфуз ввёл.
Спектаклей с того вечера ждали, как праздников. С далёких деревень приходили люди. Им хотелось послушать свежие слова, слова, которые ворохнули бы их душу и заставили биться сердце, а возможно, и призадуматься над собой, над своей жизнью, над всем, что окружает.
Ну и времена наступили. Ретивые комсомольцы поставили деревню с ног на голову. Всё завертелось, закружилось. Матери охали, мужики ворчали:
— Неколи прясть, неколи ткать, только им по шпектаклям бегать да радиу слухать. Совсем от дела отбились паршивки.
Но говорили это просто так, для порядка, а сами, как только наступал вечер, трусцой семенили в избу-читальню. Да шли не как-нибудь, не в той одёвке, в какой на печи сидели, а принаряжались. Потому как в избе надобно теперь шубу сымать. Комсомольцы так отдраили избу-читальню, что войдёшь — и не знаешь, куда ногу поставить, на какую половицу. У порога — половичок, на окнах — ситцевые занавесочки. Стол покрыт скатертью. Сидеть за ним — одно удовольствие, чувствуешь себя не то в гостях, не то просватанным. А журналов-то! Не только за вечер, так и за неделю их все не прочтёшь.
В сенях, когда-то тёмных, теперь горит фонарь «летучая мышь», всё видно, и веничек для очистки сапог от снега, и дверь не надо шарить на ощупь, а в самой избе тепло, чисто, уютно. У двери вдоль стены гвоздики набиты, чтоб одёвку вешать, а не бросать куда попало. Не успеешь голову поднять, как плакат тебя по глазам хлещет: «Просьба не курить и не плевать». И просить не надо, кто ж на чистый пол будет плевать? А вот с куревом — это уж совсем никуда не годится. Неужто за каждым разом, как захотелось покурить, надо бежать из избы? Это в мороз-то? Этак каждый взад-вперёд — считай, что целый вечер дверь нараспашку будет, никакого тепла не наберёшься. Но досужий дядя Филипп и тут свою смекалку проявил: соорудил из старых противней колпак, к нему изогнутую трубу припаял, а трубу в дымоход голландки вывел. Сидит человек под колпаком, как под зонтом, покуривает, возле печки тепло, одно удовольствие, дымок зелёной струйкой вылетает в трубу. Накурился один, тут же другой его место занимает. Стул под колпаком никогда не пустует и считается самым любимым местом.
Кто-то из дома притащил громадный, в обхват, чугун: засыпали его песком, туда окурки и пепел сбрасывают.
Комсомольцы радовались, что их дела не оставались незамеченными. Их дела подхватывали и усовершенствовали.
ПОТАСОВКА. ТОТ, КТО ИДЁТ ВПЕРЕДИ. АРИНКА ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР
Наконец-то наступили зимние каникулы.
В один из дней Аринка с Нисой катались с горки. В конце огорода была естественная гора, Симон выливал на неё несколько вёдер воды, и горка на диво была хороша. Летишь с неё, аж дух захватывает! Кататься с горки весело, но вот влезать на неё скучно и тяжело. И чтобы как-то скоротать время, Ниса придумывала всякие загадки.
— Знаешь, Аринка, в деревне волки церковь изъели, — таинственно поверяет она.
— Врёшь, не могут волки церковь есть, — авторитетно заявляет Аринка.
Ниса довольна, она смеётся, тихонько подвизгивая.
— Вот дура-а-а, — нараспев говорит она, — Волки — это так деревня называется. А церковь там из ели, поняла? — поясняет Ниса. У неё каждый день новые загадки и фокусы. И немудрено — её мать держит постоялый двор. Целый день в их доме толкутся чужие люди: там и шутки, и загадки, и острые словечки. Чего только Ниса не наслушается. А потом преподносит Аринке так, что та всегда в дурах остаётся. Вот и на этот раз Аринка чувствует себя одураченной. Насупленная, она тяжело взбирается в гору, таща за собою вдруг сразу отяжелевшие сани. Ниса, укутанная в большой платок, продёрнутый у неё под мышками и завязанный сзади большим узлом, похожа на тряпичный куль. На лице в маленькую щель выглядывают жёлтые глазки: хитрющие, лукавые. Переведя дыхание, досыта нахохотавшись, она опять наступает: