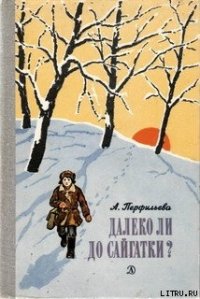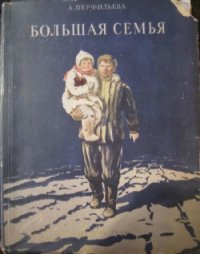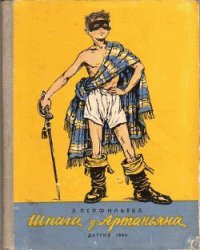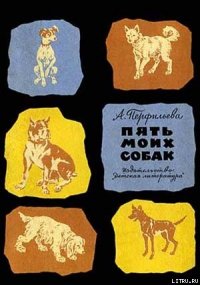Во что бы то ни стало - Перфильева Анастасия Витальевна (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
Лена на цыпочках прокралась по темному коридору, бросилась, обняла Кузьминишну… Как прежде, не таясь, прильнув всем телом. Кузьминишна ахнула.
— Доченька! Ты чего ж это здесь, серёд белого дня? А я наволочки никак недосчитаюсь. Небось опять мальчишки порвали да забросили! Во двор ступай, девочек на огород собирают.
— Я потом… Нянечка, иди сюда. Смотри! Видишь?
Схватив ее за мокрый фартук, Лена тянула, подтаскивала Кузьминишну к шкафу. И вот уже сидела, забившись между шкафом и стеной, пригнув голову к коленкам, ожидая, не вспомнит ли и Кузьминишна.
Но та не вспомнила. Гладя отросшие Ленины волосы, заторопила:
— Беги, доченька, хватятся тебя!
Лена стукнула в шкаф, хитро спросила:
— Он не здесь раньше стоял, в другой комнате, правда? И я за ним в углу стояла! Раньше, давно, когда еще мама с Игорьком были, да? Я помню!
Кузьминишна почему-то испугалась. Оглянувшись на пустой коридор, затормошила Лену, отмахиваясь от шкафа, как от привидения:
— Да ты что, Леночка? Ты что?
— И «Федул губы надул» ты мне говорила! Говорила!
— Какой еще Федул, прости господи? Наволочки вот никак недосчитаюсь… Ступай, Лена, ступай…
И Лена ушла. Потому что нянечка не смотрела в глаза, значит, говорила неправду. И опять боялась чего-то. А самое главное — в конце коридора стояла спокойная Марья Антоновна в своей блузке с галстуком, держала в руке погасшую папиросу и грустно-насмешливо глядела на них обеих, смущенную Кузьминишну и Лену.
Лена пошла не во двор, в зал. Там было прохладно и пусто. Неподвижно повисли кольца на толстых веревках. Неподвижно стояли в деревянных подставках брусья, одно выше другого, за ними самодельный турник. Лена села на матрац, потом повалилась на него и заплакала…
Плакала она недолго — в зал вошла повариха.
— Ты что это, куколка? Никак, слезки льешь? — спросила вкрадчиво, нагибаясь над матрацем.
Лена упорно молчала. Повариху уже успели невзлюбить многие девочки. Лена слышала, как они бранили ее: дежурных сахаром обсчитывает, а когда Марья Антоновна пробует обед, сует в тарелку полную ложку масла.
— Ай обидел кто?
Лена отвернулась. Повариха жалостным голосом причитала:
— Оно, конечно, раньше б у папеньки с маменькой в бархате ходила, с золоченых блюдцев молочко б пила… Теперь кому забота? Вот и плачет дитё.
— У нас чашки золотые, — сердито сказала Лена!
— Лапушка, перебили их половину! Рази на такую ораву напасешься? А то все твое было б, все! Я-то знаю!
— Ничего вы не знаете!
Повариха нагнулась ниже, от ее фартука пахло кислым, вроде капусты.
— Мое дело сторона, — сказала она. — Только брат мой у старого барина, деда твоего, в кучерах служил, вот и жалею. А по мне, пропади вы хоть все пропадом!
Барин, кучер… Лена не поняла совершенно ничего. Встала. Медленно вышла в коридор, на крыльцо.
Пока она сидела за шкафом и плакала в зале, прошел дождь. Блестели в палисаднике, как блюдца, голубые лужи. Стряхивала прозрачные капли сирень, прыгал по дорожке крошечный лягушонок. В другой раз Лена бросилась бы за ним в погоню, сейчас не стала. Девочек в палисаднике и во дворе не было, видно, уже ушли на огород. Что ж ее никто не поискал, не хватился? Даже не заметили! Значит, никому, никому не нужна?
Лена вернулась в коридор. Прошла мимо шкафа опять в зал. Там показалось совсем темно. На матраце лежала резная оградка, тень от люстры… И вдруг Лена увидела, за брусьями стоят двое: Дина и большая нескладная девочка, недавно приведенная к ним в спальню, с которой Дина сидела, пока шили… Они шепчутся с таким азартом, что у Дины вздрагивает рыжий хохолок, а у той, новенькой, как оладьи, шлепают губы. Вот она вытащила из-за пазухи сверток, передала Дине, та загородила его плечом, и обе зашушукались снова.
— Вперед на барахолку… Ты одна пойдешь, меня еще признают. В подъезде каком переоденешься, я юбку с рубахой на случай сберегла… — шлепали оладьи. — После на вокзал. Называется Рязанский. Дорогу спросишь. Скажешь, меня там мать в поезде ждет или что. Ну, прижалобишься.
— А ты? — Дина стояла так близко, Лена могла бы броситься к ней, закричать…
— Я тебя в подворотне буду ждать. У вокзала забор серый и подворотня… Приметная! Как принесешь, сразу туда. Там еще фонарь. Я, как везли меня, приметила. Поняла? После обеда в аккурат… Ты — будто дежурная, а я — с огорода…
Девочки зашептались совсем тихо.
Динка хочет бежать с этой противной, нескладной новенькой? Бросить ее, Алешку, нянечку, опять ехать на поезде, скитаться по барахолкам? Нет, ни за что! Не отпускать, следить за ней, вернуть. Или уж вместе…
Лена сжала кулачки.
Есть на одной из привокзальных, а потому всегда людных площадей Москвы каменный дом с остроконечным шпилем. Раньше это был офицерский клуб, теперь — госпиталь. В этом госпитале тихим августовским вечером, таким золотым и ясным, что не верилось в уходящее надолго лето, умирал привезенный из Армавира вместе с другими ранеными Иван Степанович.
О том, что он умирает, Иван Степанович знал лучше лечащих его врачей. Не оттого, что чувствовал последнее время странную пустоту во всем теле, точно оно перестало быть весомым. И не оттого, что заметил, как сестры или заходившие его проведать больные поспешно отводили глаза — в их глазах была радость жизни, в его же — только ясный покой. А как раз оттого, что с некоторых пор находился в том состоянии невозмутимого покоя, когда события своей и окружающей жизни оцениваются безошибочно точно.
Вот уже несколько дней Иван Степанович с поразительной ясностью вспоминал свою трудную, богатую и в то же время обыкновенную жизнь. Детство, юность, война, революция, снова война, гражданская, встреча с Алешкиной матерью, которую одну он любил за эту короткую жизнь, подпольная работа в тылу у белых, смертельная ненависть к ним, счастье победы, горечь от физического бессилия, когда так нужны были силы, чтобы строить новую жизнь. Наконец, приезд в Москву, в эту тихую гавань… Нет, не тишины и покоя, а нового, полного борьбы дела хотели бы его ослабевшие руки!
Иван Степанович лежал неподвижно, каждое движение было мучительно. Сегодня с утра он попросил сестру дозвониться в детский дом и передать, чтобы к нему на свидание отпустили воспитанника Лопухова.
Иван Степанович продумал до мелочей все: как Алешка доберется в госпиталь — детдом на другом конце города, а трамваи не ходят; как убедить заведующую, что к ночи Лопухов будет на месте, а то еще встревожится, что заблудится или, чего доброго, сбежит; чем объяснить, что просит свидания. Не тем же, что надо помирать и хочется в последний раз взглянуть в чистые суровые Алешкины глаза, так похожие на глаза матери?
Сестра выслушала скупые слова больного, вышла бесшумно. Дозвонилась она в детдом не скоро. То не было Марьи Антоновны, то ребята занимались в мастерской. В концелярии оказался Андрей Николаевич. Он-то и пообещал уговорить Марью Антоновну и больше того — доставить Алешку в госпиталь точно к назначенному сроку.
И Иван Степанович приготовился к своей прощальной с ним встрече.
Алешка оглянулся на оставшегося у подъезда Андрея Николаевича, оттянул тяжелую, с бронзовыми ручками дверь, она мягко захлопнулась за ним.
Госпиталь был похож на армавирский: тот же запах карболки, лекарств, те же белые стены. На площадках стояли и курили хромые, на костылях, забинтованные раненые… Но даже здесь, у лестницы, пока он дожидался, что санитарка добудет для него халат, Алешка ощутил разницу. Не было напряжения, скрытой тревоги, суеты. Где-то в палатах тихо и нежно играл граммофон, принесли газеты, и больные спокойно разворачивали их; за окнами качались и шелестели высокие клены. Во всем чувствовалась уверенность в завтрашнем дне и право на отдых.
От нетерпения у Алешки дрожали губы. Наконец его провели наверх, в палату. Он бросился к кровати, отпрянул. Пристроился на краешке табуретки и тут же пересел снова в ноги к Ивану Степановичу.