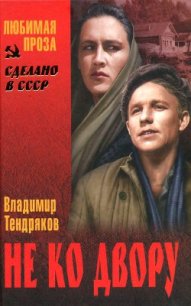Ночь после выпуска (сборник) - Тендряков Владимир Федорович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой, – болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания – огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров – обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.
Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич – рядовой, Базаев…» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым Зайцем – обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне… Война – далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, Гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны… Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.
Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью – лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирающая на обрывистый берег.
Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.
Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».
– Фратеры! Пьем по очереди кубок мира!
Игорь скромно попросил:
– Если нет возражений, то я…
Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля, – провозглашать первый тост.
Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.
– Давай, Цицерон! – подбодрил Генка.
Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенными скулами – рубленый нос, крутые салазки в темной дымке – зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.
– Друзья-путники! – с пафосом провозгласил он. – Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..
Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен – бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:
– Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!
Это Игорю и было надо – точку опоры.
– Этот гейдельбергский человек хочет свободы! – возвестил он. – А может, вы все того же хотите?
– А почему бы и нет, – осторожно улыбаясь, подкинул Генка.
– Для всех свободы или только для себя?
– Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.
– Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода – подличай! Убийце свобода – убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?
В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:
– Знаете ли вы, невежды, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или – или! Середины нет и быть не может!
– Ты, конечно, хочешь подчинять? – спросил Генка.
Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы, – Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.
– Кон-нечно, – с величавой снисходительностью согласился Игорь. – Подчи-нять.
– Тогда что ж ты возишься с кисточками, Гай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись – можешь проломить голову.
– Ха! Слышишь, народ? – Нос Игоря порозовел от удовольствия. – Все ли здесь такие простаки, что считают – кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!
– Виват Цезарю с палитрой вместо щита!
– Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас… Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти…
– А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?
– Может, – согласился Игорь спокойно и важно.
– И что тогда?
– Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное, – сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.
– Вот это я как-то себе отчетливей представляю.
Игорь вознес над головой стакан.
– Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!
Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:
– Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?
Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:
– За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.
И он шагнул к Натке.
– Пью за власть! Да! За власть над собой!.. – Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку. – Сократ! Наполни!
Но Сократ скупенько плеснул до половины – девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.
– Ну, Натка… – попросил Генка. – Ну!
Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан – в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука – оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.
– Натка, ну!
Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.
Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:
– Когда-нибудь, Гена, за власть… Не за свою. За чью-то… над собой… Сейчас рано. Сейчас… – Вскинутый стакан в белой струящейся руке. – За свободу!