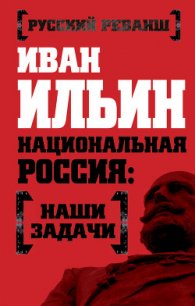Мы — хлопцы живучие - Серков Иван Киреевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
— Ну, как там, ничего не слышно из Америки?
Бабушка даже начала географией интересоваться. Как-то нам с Санькой попалась карта восточного и западного полушарий Земли. В школе мы этого еще не проходили, просто разглядывали и читали, где какой океан, где какое море, где земля, где вода. Тут и бабушка подошла к столу:
— Какая хоть она, та Америка?
Мы показали.
— А чего это она такая? — удивилась.
— Какая — такая?
— Да в поясе перетянутая. Сперва широкая, потом узкая, а потом опять вширь пошла.
Это и нам неизвестно, почему она перетянутая. Так уж получилось.
Америка не сходит у бабушки с языка. Спросишь у нее:
— Баб, куда ты?
— Прямо до Америки на зеленом венике.
Вот и весь сказ. Понимай как знаешь.
Как бабушка ни караулила, а на дележку американской помощи не попала. Чтоб меньше было шума и споров, в сельсовете все заранее разделили. Но и про нас не забыли. Скок наказал, чтобы бабушка пришла.
— Хороший человек, — похвалила его бабушка и — трушком по улице. Потом вернулась, бросила кошелку, а взяла мешок. Чего доброго, в кошелку не влезет, а из большого не вывалится. Мы с Глыжкой бросили учить уроки и нетерпеливо дожидались ее возвращения. Интересно, что она принесет. Может, каждому штаны и по рубашке в придачу? А может, что-нибудь такое вкусное и большое, что будем есть-есть и не съедим.
Вернулась бабушка под вечер, мрачная и невеселая. Я сразу понял, что наши надежды на помощь лопнули, а Глыжка полез с расспросами — и попал под горячую руку.
— Сядь! — цыкнула она на брата, — Видал ты его, разинул рот на дармовщину.
Помощь была такая, что Скок не знал, как ее и разделить. Пальто линялое отдали Нюрке Казеко. Той, что во-он за самым Ситнягом живет. Она мне ровесница, осталась без отца, без матери, а на руках еще трое младших братьев и сестер. Кому же отдать, как не ей?
На весь Хутор одни сапоги достались. Кажется, Поликарпиха их схватила, потому что сидят ее дети на печи, в школу не ходят: совсем обуть нечего.
А мы, оказывается, еще богачи, нам, видите ли, и так еще можно жить, без сапог.
— И как у него язык повернулся? — чехвостит бабушка Скока. — Ах ты, чепела хромоногая!
Правда, и бабушке кое-что предлагали, набивались даже. Давали подтяжки для брюк. Так она сгоряча на них плюнула, а потом, когда одумалась, подтяжки уже кто-то забрал. Принесла она только пачку яичного порошка. В тот же вечер развела его водой, испекла блин, и мы его мигом съели.
— Вот вам и вся Америка, — подвела итог бабушка. — И больше вы мне о ней не говорите. Слышать не хочу. Сами щавелю не нарвем, бульбы не вырастим — никакая нам Америка не поможет. Подтяжки прислали, а к чему их цеплять?
Ей почему-то и блин тот из порошка не понравился. Но по-моему, здесь она кривила душой. Блин был вкусный, только что мал.
Вот и гневается с тех пор моя бабушка на Америку.
А Скока она в скором времени простила, потому что ему, бедняге, от Поскочихи влетело по первое число: взял себе только пачку сигарет, а сам заплатками на штанах светит.
Нам пишут из Европы
По улице мимо нашей хаты часто проходит с ореховым посошком в руке деревенский почтальон Давид. Сколько я помню, он работает на почте. До войны Давид был вроде как бы начальником, сидел в отдельной комнатушке в сельсовете за невысокой перегородкой и хлопал по конвертам печатью. С сумками по селу бегали две молодицы.
При немцах Давид не работал. Говорят, староста хотел посадить его за ту перегородку, но старик так расхворался, что из дому редко выходил. Когда пришли наши, он сразу выздоровел и теперь сам — молодиц ему пока что не дали — носит тяжелую кожаную сумку. Иной раз мы с Санькой ему помогаем, если нам по дороге.
Сумка у Давида всегда полна. Еще зимой в наши Подлюбичи густо пошли письма из Германии и других стран, которые старый почтальон называет одним словом — Европа. Сядет он перебирать в сумке письма да открытки и нам показывает:
— Вот, глядите, хлопцы, — Будапешт!
Вертим мы в руках открытку и диву даемся: какие большие города есть на свете, больше, чем Гомель!
А то покажет Варшаву, Бухарест или Софию. Тоже красивые города.
В сумке у Давида попадаются открытки с пешими и конными рыцарями, с разными церквями и костелами, снеговыми горными вершинами и морскими берегами. Бывают и такие: рамочка в виде сердца, а в сердце франт в черном пальто, волосы причесаны, аж блестят. Причешись я так, бабушка сказала бы, что меня корова языком прилизала. Рядом с франтом розовые паненки страшной красоты. На одних карточках франты и паненки держат хрустальные бокалы, видно, с вином и друг другу улыбаются, на других — целуются. А под ними по-немецки золотыми буквами написано: «Ich liebe dich».
— Во, хлопцы, посмотрите только, что Макар Ховре прислал — либадих! — смеется Давид. И нам тоже смешно: мы же знаем того Макара — мужик мужиком, и Ховра босая на работу ходит. А он — «либадих»!
Письма тоже бывают разные: в конвертах и без конвертов, сложенные треугольником да еще и солдатскими нитками прошитые, на бумаге из школьных тетрадей и на каких-то немецких казенных бланках; бывают с фотографиями и без фотографий.
Густо идут в Подлюбичи письма из Европы, и наш почтальон иногда не управляется их разносить по хатам и землянкам. Тогда к концу занятий он приходит на школьное крыльцо и ждет последнего звонка.
— Петька! — кричит старик, когда мы окружаем его со всех сторон. — Отнеси письмо Алёне Самохвалихе! Санька! Передай Ковалям. Да не потеряй гляди…
Давид плохо видит и поэтому подносит конверты к самому носу: кажется, он не читает, что там написано, а нюхает. Достал из сумки, понюхал:
— Коля, твоей сестре либадих!
Так и раздаст на самые дальние улицы. А мы и рады: бежим из школы и почту разносим. Каждый тебе спасибо скажет, а от Давида нам честь и слава. Помимо славы перепадает немало разного добра: то чистый лист бумаги, то огрызок карандаша, а то и прошлогодний журнал с рисунками.
Интересно разносить по хатам письма. Люди читают, и ты наслушаешься. Разве что девушке какой-нибудь придет письмо от жениха — тогда извините. Выхватит из рук, в уголок забьется и шепчет про себя. Но чаще всего тут же на завалинке или во дворе читают. Если у хозяйки грамоты в обрез или очки за войну потерялись, — нас с Санькой попросят.
Разные письма бывают. Читая одни, люди радуются, другие — печалятся. Открытки чаще всего ставят в рамку, где под стеклом фотографии близких, под вышитые рушники, если у кого сохранились. Входишь в землянку — в рамке какой-либо Будапешт или паненка с франтом. А если письма от командования…
От командования письма в строгих, фабричного изготовления конвертах, подписанные разборчивой писарской рукой. Таких писем все боятся, и никто из взрослых не берется занести их по дороге, как бы Давид ни просил. А нам он их не доверяет: это уже не письмо, а документ. Такие письма, денежные переводы и другие важные бумаги старик разносит по дворам сам. И люди уже приметили: если он в хату идет, — значит, с добром, если в окно постучится, конверт в руки, а сам за калитку, — беда.
Такое письмо он недели три назад принес тетке Марфешке. Оно было коротенькое, наполовину печатное, наполовину — от руки. Умер в госпитале. Санькин отец Иван Маковей умер в госпитале.
Когда это письмо прочли, я думал — тетка Марфешка сейчас запричитает. А она не причитала и не плакала. Она села на скамью, обхватила голову руками и словно окаменела. Глаза открыты, а видеть ничего не видят. Прибежали соседки, прибежала моя бабушка, стали все уговаривать, чтоб поплакала, а то сердце может не выдержать. А она молчит и молчит. Белая как мел.
Наконец она встала, хотела, видно, куда-то пойти, да невзначай зацепила и опрокинула табуретку. Хотела горшок на стол поставить, а тот выпал из рук, разлетелся в черепки, и по полу потек перловый суп. Говорят, на нее затмение какое-то нашло. И не диво — дядя Иван был золотой человек. Все бабы его нахваливали, говорили, что свою хохлушку он на руках носил. Ни слова она крутого от него не слышала, ни синяка не видела.