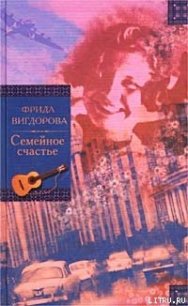Дорога в жизнь - Вигдорова Фрида Абрамовна (чтение книг txt) 📗
…Не могу сказать, чтоб у Суржика назавтра же дело пошло на лад. Нет, этого не случилось. Но что-то в этом вялом, равнодушном парне шевельнулось, что-то ожило. Чуть потверже стал звучать его голос в разговоре с ребятами, чуть независимее стал он отдавать рапорт. Встречаясь с ним глазами, я теперь читал в его взгляде что-то вроде упрямого вызова: «Ты еще узнаешь мне цену. Погоди, увидишь, что есть Суржик!» Это не было перерождение. Но что-то произошло, что-то стронулось с места в этой неподвижной, сонной душе. Важно было не упустить это, вовремя поддержать, помочь.
С Колышкиным не произошло ровно ничего. Разве что лицо его стало еще угрюмее, глаза еще тусклее, движения еще более вялыми и нескладными. Я понял: с Репиным больше нельзя оставаться в прежних отношениях, надо что-то круто и всерьез переламывать.
Впрочем, недолгое время спустя он сам дал мне повод для разговора.
20. ПАНИН
В столовой ребята сидели по четыре, иногда по шесть человек за столом. Когда освободились места Короля, Плетнева и Разумова, на одно из них посадили Панина, паренька лет тринадцати, угрюмого и неповоротливого, – того самого, что чуть не съел буханку; жесткие черные волосы его странно – козырьком – торчали вперед над низким лбом. И в первый же день я увидел, что Володин, единственный оставшийся от прежней компании, подсел пятым к соседнему столу.
– Почему не на своем месте?
– Так. Мне здесь лучше. Я вот с Пашкой и Петькой буду.
– Глупости! Тут ты только им мешаешь и самому неудобно – сидишь на углу. Иди на свое место.
Препираться было нельзя, и Володин нехотя вернулся. Но потом он стал ходить за мной по пятам, умоляя разрешить ему пересесть на другое место.
– Зачем?
– Ну, Семен Афанасьевич…
– Объясни, почему не хочешь оставаться на старом месте, тогда и поговорим.
– Ну, Семен Афанасьевич… Семен Афанасьевич…
Толкового объяснения не последовало – и Володин остался на прежнем месте. Но он воспользовался тем, что в столовую мы не ходили строем (просто было определено: завтрак от семи тридцати до восьми, обед – от часу до двух и т. д.), и изворачивался как мог. Он прибегал пораньше, ухитрялся с молниеносной быстротой проглотить все, что полагалось, и уходил прежде, чем Панин появлялся в столовой.
Панин проходил в столовую боком, не поднимая глаз, ел, уставившись в тарелку. Я видел, что его сторонятся, не садятся рядом, даже кровать его в спальне стояла на отшибе. Почему?
Думать, что ребят оттолкнула от него история с буханкой, я не мог – такая щепетильность как будто не была им свойственна. Нет тут другое. Но что?
В тот день мы с Алексеем Саввичем вернулись из Ленинграда, куда накануне пришлое отправиться обоим, уже после утреннего обхода и поспели прямо к линейке. Без нас рапорты по спальням принял Жуков.
Как всегда после отлучки, даже самой короткой, я приглядывался ко всем особенно пристально, и мне показалось, что есть перемена в ребятах. Неуловимая, едва заметная. Я не мог бы сказать, в чем она, знал только: перемена эта тревожная. Этому знанию научить не может ни одна книга, этому учит только опыт.
Во время завтрака я увидел, что Панина нет в столовой. На мой вопрос дежурный отвечал что-то невнятное. Я поднялся в спальню и нашел Панина жестоко избитым. Он не мог поднять голову, все лицо, все тело было в синяках.
– За что били?
Он прикрыл глаза и не ответил. Я знал, что спрашивать бесполезно: ни он и никто другой мне этого не скажет. Не скажут ни наедине, ни прямо, открыто, на общем собрании.
Я вышел из спальни, спустился в столовую и отыскал глазами Петьку:
– Созывай собрание.
Он умчался, и вскоре по всему двору разнеслась высокая трель колокольчика.
Ребята выстроились на линейке, командиры – на правом фланге своих отрядов. Что и говорить, это уже не та грязная, бестолковая толпа, которую я нашел здесь, когда приехал. Но как это далеко от того, что оставил я в Харькове, как далеко от того, что хотелось увидеть! И даже не во внешности дело. Вот они стоят привычно прямо, чисто одетые, умытые, готовые отправиться на работу. Но наверху лежит их товарищ, избитый в кровь. Все они знают об этом – и ни у кого, даже у самых лучших, не хватит духу сказать прямо и открыто, что произошло.
– Я не хочу сейчас знать, что сделал Панин, – сказал я. – Что бы он ни сделал, вы не имели права избивать его. Я уже не первый раз вижу: вы трусы. Вы ничего не делаете открыто, по-честному. Вы кур крадете в масках. Вы избиваете товарища ночью, накидываетесь на одного целой толпой.
– Он нам не товарищ! – крикнул кто-то.
– У Панина нет другой семьи. Его семья – вы. Один он пропадет. И кулаком вы его ничему не научите. Дежурный командир Жуков! Два шага вперед!
Жуков вышел.
– Сегодня ты поднял флаг. И ты сказал: ночь прошла спокойно, все в порядке. Почему ты солгал?
Жуков закусил губу, брови его сошлись, на скулах выступили два ярких пятна. Он смотрел мне прямо в глаза и молчал. Он был моей опорой, моим лучшим помощником, душой своего отряда. Но делать было нечего, не наказать его я не мог.
– Освобождаю тебя от дежурства и лишаю права дежурить на месяц. Командир Суржик! Прими дежурство.
Суржик вышел к мачте. Жуков снял с рукава красную повязку и подал ему. Суржик надел повязку и сказал, как давно уже было заведено у нас:
– Дежурство принял командир пятого отряда Суржик!
Лицо его побледнело, лоб напряженно, страдальчески морщился. Впервые при таких обстоятельствах он сменял лучшего нашего командира.
Этот случай дал мне возможность по-новому оценить Жукова. Его отряд был потрясен и возмущен до предела. Пострадать из-за кого? Из-за самого последнего, самого презираемого парня во всем доме! И кто пострадал! Жуков, первый командир, Жуков, которого слушались охотно и без отказа! Они просто не могли примириться с такой несправедливостью. Но сам Саня вел себя так, словно ничуть не уязвлен, словно ничего не случилось. Он по-прежнему прямо встречал мой взгляд, все так же увлеченно работал, так же ровен был со своими ребятами. И только словно появилась в нем какая-то новая мысль, мешавшая ему быть совсем прежним, мальчишески беззаботным. Перед ним встала задача посложней тех, с какими ему приходилось сталкиваться прежде, и я чувствовал – он сейчас про себя разбирается в том, что же такое истинная справедливость.
А для меня, в сущности, все осталось нерешенным. Неизвестно было, почему избит Панин и почему все его сторонятся. Конечно, у меня были на этот счет свои догадки и предположения, но на основании догадок я действовать не мог. Надо было все выяснить точно, и как можно скорее. Помогло мне дня через два совсем незначительное обстоятельство.
– Почему это у тебя карманы оттопырены?
Петька смотрит на меня снизу вверх:
– Там… губная гармошка… и еще карандаш. Красный с синим. И еще… мячик… А еще…
– Поди положи в тумбочку. Нечего карманы оттягивать.
– Нет, Семен Афанасьевич, в кармане лучше, – говорит Петька просительно. – Вот если бы к тумбочкам ключи сделать…
– Зачем ключи? У тебя пропадают вещи?
– Да нет… – Петька густо краснеет и беспомощно оглядывается.
Я прошел по спальням. Да, здесь новости. К одной тумбочке привинчены кольца и висит замок. У другой дверца заперта на задвижку, и ненадежный этот запор хитро перевит бечевкой. Едва ли это обеспечивает безопасность, но, во всяком случае, затрудняет задачу тому, кто захотел бы проникнуть внутрь.
– Зайди ко мне, – сказал я Панину.
Едва он переступил порог, я спросил:
– У своих воруешь?
Он молчал. Он немного побледнел за эти дни, и на щеке еще виднелся синяк. Я смотрел на его упрямо опущенную голову и думал: да, конечно, сомневаться больше нельзя. К такому наказанию ребята прибегают лишь в очень редких случаях, и один из них – воровство у товарищей, у своих.
Я сделал Панина чем-то вроде своего адъютанта: все время, свободное от работы в мастерской и от еды, он был при мне неотлучно, я не отпускал его от себя ни на минуту. Слово убеждения до него не доходило. Им владела привычка, въевшаяся, как болезнь; она не излечивалась даже самым сильным и жестоким лекарством – презрением. Все ребята в доме, от Жукова до маленького Лени Петрова, презирали Панина. Иные и сами были нечисты на руку. Я всегда отпускал их в город со стесненным сердцем: кто знает, как они будут вести себя, если увидят что-нибудь, что плохо лежит? Но они свято верили, что их промысел ничего общего не имеет с поведением Панина. Этот воровал у товарищей. Он не пренебрегал ничем, брал все, что попадало под руку, равнодушно молчал, если это обнаруживали, и совершенно примирился с отвращением, которое он внушал всем ребятам. «И не совестно тебе?» – смысл этих слов попросту не доходил до него.