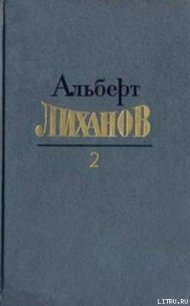Чистые камушки - Лиханов Альберт Анатольевич (версия книг txt) 📗
Михаська шагнул. Псы, ощерив пасти, изнемогая от ярости, бросались к нему, натягивая провода. Чем ближе подступал к ним Михаська, тем яснее он понимал, что псы не достанут, не достанут его!
Осталось сделать последний шаг, чтобы вступить в этот зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы, а Михаська в мертвой полосе.
Он читал, есть такое выражение – мертвая полоса. Ничейная земля. Не наша, не фашистов. Пули туда не достают. Только разведчики по ней ползти не боятся. Она для них своя.
Михаська шагнул в коридор. Всего полметра он. Ну, сантиметров семьдесят. Главное – не торопиться. Сделаешь шаг вправо – попадешь к правой овчарке. Влево – к левой… Надо не спеша. Маленькими шажками.
Вперед, вперед! Так…
Не смотреть еще на псов! Не смотреть! Посмотришь – испугаешься; отпрянешь назад – и к другому.
Идешь, как по мостику над пропастью. Там, если хочешь жить, не смотри по сторонам. Не обращай внимания, что справа пропасть и слева пропасть. Гляди вперед!
Михаська даже пошатнулся, представив, как он идет над пропастью, на мгновение взмахнул рукой. И тут же его словно ожгло. Он краем глаза взглянул на руку. На тыльной стороне ладони будто красной тушью кто прочертил дорожку. Зацепил! Зубом, наверное.
На фронте так же – зацепят осколком. Но там это даже раной не считается. Не смотреть на руку, на кровь. Прижать руки к бокам.
Кто-то охнул на той стороне забора.
Михаська пошел побыстрее. Мелкие-мелкие шажки. Так малыши учатся ходить.
Михаська видит, как псы скалят зубы, остервенели совсем, брызжут слюной, брызги летят на Михаську. Провода натянулись, но держат. Прочные.
Осталось меньше половины…
Уже треть осталась. Каких-нибудь двадцать шажков. Если бы обыкновенно идти – пять шагов, а так – двадцать.
Михаська пробирается вперед. Он посмотрел на забор. Савватей смотрит остановившимися глазами. А Сашка совсем белый. Забор облепили какие-то люди.
– Жулик, что ли? – спрашивает кто-то.
– Нет, – отвечает Савватей, – фокусник. Деньги сейчас собирать станет.
– А-а-а-а!.. – заорал кто-то протяжно.
Михаська взглянул на дом, на одно мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова, подольше. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж.
Михаська ругал себя потом. Выходит, собак не испугался, а Фролихи с мужем испугался. Укусили бы они, что ли?
Но разве все заранее знаешь? И до бревен осталось метра два, а там и улица, но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся, повернулся к ним лицом.
Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади, он рванулся вперед и чуть не угодил к другой собаке. Это была бы верная смерть. За горло – и все… Каким-то усилием воли он оттолкнулся назад, и снова его резануло что-то сзади.
Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно даже глотку.
«Фашисты наших тоже овчарками травили», – вспомнил он.
Михаська кинулся к бревнам, вторая собака рванула его за обгорелую курточку, сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор.
Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные…
28
Все это случилось без отца, и может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мама только плакала целый вечер.
А отец взял отпуск на неделю. «Без содержания», – сказал он. Михаська подумал, что, может быть, они посидят вместе дома, снова будет уютно и хорошо, как тогда, когда их комната была похожа на мастерскую. Или наконец сходят на охоту. Как раз весенний сезон. Ведь говорил же отец, что у его приятеля есть ружье и он даст в любое время, если понадобится. А про то письмо, с фронта, он, конечно, уже забыл…
Но и на охоту они не пошли. Михаська даже не просил. Потому что отец взял отпуск не для отдыха. Он насыпал десять кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, снес ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на Север. Продавать картошку. Будто ее и здесь нельзя продать, если уж так надо.
Михаська представил, как отец будет торговать на базаре картошкой, и ему стало противно. Пусть это где-то там, на Севере, и его не знает никто, но какая разница – где. Отец говорил матери: «Поеду, пока картошка там в цене».
Михаська лежал дома на животе. Возле дежурил Сашка. Он даже в школу сегодня не пошел.
Странно, Михаська почти не чувствовал боли.
Немного ныла спина и чуть пониже – всего-то.
Сашка вздохнул. Михаська внимательно присмотрелся к Сашке. Губа у него опухшая.
– А что с губой?
Сашка понурил голову.
– Ничего, – сказал он. – И на Савватея управа найдется. Вон в милицию сколько мужчин пришло. Демобилизованных. Вырасту, в милицию пойду.
Эти последние слова Сашка сказал зло, уверенно, будто и правда мечтает всю жизнь милиционером стать.
– Пойду! – повторил Сашка. – Вот увидишь! Всех савватеев – в клетку! Хорошо бы зверинец такой устроить. – Глаза у него заблестели. – Все клетки, клетки… В одной – тигр, а в другой – Савватей. И на клетке написано: «Шпана. Хищник. Питается гематогеном. Три раза в день по столовой ложке».
Михаська засмеялся. Он знал, что Сашка не любит гематоген, потому что это кровь. Хоть и коровья, хоть и сладкая, а кровь. Его от гематогена мутило, когда Юлия Николаевна с ложечки их поила. Он говорил ей: «Я крови нагляделся, не могу».
– Да я ведь и сам не бобик, – сказал вдруг серьезно Сашка. – Человек может только сам продаваться, а купить его никто не сумеет. – И покраснел. – А я тебе махал, махал, махал тогда… Хотел Савватея уговорить, чтоб тебя не трогал.
Михаська вспомнил про их с Сашкой драку, вспомнил про то, с чего все началось, и сказал:
– Дернуло меня тогда этими собаками тебя травить!
– Нет, это я виноват. Правильно, за оскорбления надо по морде давать. Вот хочешь – дай еще! Ну! Дай!
Сашка встал на коленки перед Михаськой, подставлял лицо и приговаривал:
– Ну дай, дай! Дай, говорю.
А Михаська смеялся и отворачивался.
– Ты скажи лучше, как тебя Савватей снова прибрал, – сказал он сквозь смех.
Сашка сразу стал серьезным, снова уселся на табуретку и рассказал все по порядку. Михаська слушал и снова винил себя во всем. Да, это он виноват, что послушал тогда Юлию Николаевну, не зашел к Сашке, хотя должен был, не имел права не зайти.
После той драки из-за псов Сашка, конечно, разозлился и тоже, как Михаська, думал целые дни напролет. Но если Михаська его простил – Сашка не простил и все дулся, дулся…
И вот пришла Юлия Николаевна. Сашка думал, что сойдет с ума. Убили Колю! Давно убили, а он все думал, что Коля жив, может, в партизанах, а оттуда ведь не напишешь. И тут – Юлия Николаевна… Сашка хотел пойти утопиться, но Юлия Николаевна послала его за врачом для мамы. Ее отвезли в больницу. Она там пробыла недолго, несколько дней. Но ему показалось – месяц.
Сашка немного успокоился, к нему на другой день снова Юлия Николаевна приходила, у Сашки разболелась голова, и она уложила его в постель и позвала соседку. Потом ушла и не велела никого пускать.
Но Сашка все думал: неужели он не придет, Михаська? Все-таки друг… Ну поругались, ну подрались, но ведь знает же, что такое горе, – придет.
А время будто остановилось. Соседка ушла. Сашка оделся и стал бродить по комнате из угла в угол. И реветь во весь голос.
Вдруг – стук. Сашка обрадовался – думал, Михаська, а входит Савватей. Достает бутылку вина и говорит:
– Эх, Свирид, Свирид, зря ты ушел от меня! Шестерить бы я тебя долго не заставил тогда, но зато теперь был бы ты у меня первым заместителем и верным другом.
Сашка говорит ему, что братана убили, а Савватей отвечает:
– Знаю, потому и пришел. Иначе бы – не жди, не банный лист, не прилипаю, сами все ко мне липнут.
Тут налил он Сашке стакан этого вина – желтое такое, клопами отдает – и предложил выпить за Сашкиного брата. Сашка снова реветь, но выпил; чуть отдышался, выпил потом еще полстакана и весь день назавтра крутился на парте, потому что мутило и хотелось пить.