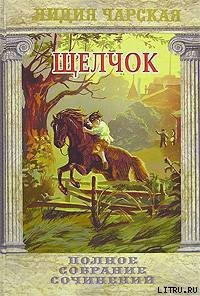Том 12 Большой Джон - Чарская Лидия Алексеевна (читать книги онлайн полностью txt) 📗
— Будем смелы, как орлы, будем, как рыцари, честны!.. — выкрикнула она звонко и, взмахнув, точно крыльями, полотенцем, которое она накинула на шею, со смехом ринулась вниз, на чью-то ближайшую постель. Потом вновь быстро вскочила на пол и бросилась вперед, вся охваченная тем же молодым задором. Бросилась и… разом замерла на месте с широко раскрытыми глазами.
Перед ней, как из-под земли, выросла небольшая фигурка Симы Эльской.
Шалунья Волька была теперь взволнована, как никогда. Голубые глаза ее сверкали гневом. Обычно розовые щеки были белы, как мел.
Что-то словно толкнуло, словно ударило в самое сердце Лиду. Ей показалось, что сейчас, сию минуту должно случиться нечто ужасное, грозное, неумолимое, как судьба роковая, тем более, что глаза Эльской смотрели на нее с выражением немого укора.
— Ну… ну… — подняв руки и словно защищаясь от незримого удара, предназначенного для нее судьбой, прошептала Лида.
— Вы там, как вас, одержимые и обреченные! Тише! Не беснуйтесь! Слушайте, что я скажу: фрейлейн Фюрст опасно больна… Серьезно… Своим подлым поступком вы уморили ее, — и, махнув рукой, Сима бросилась на свою постель ничком.
"Фрейлейн Фюрст больна. Своим подлым поступком вы ее уморили"…
Эта фраза раскаленным гвоздем жгла стриженую девочку с не в меру вспыльчивым сердцем и открытой благородной душой.
"Фрейлейн Фюрст больна — вы ее уморили"… — кровавыми буквами стояло перед глазами, неумолкаемым звоном звенело в ушах. И куда бы ни пошла Лида, всюду сопутствовала ей эта мучительная, грозная, как призрак, фраза.
"Вы ее уморили"… "И она умрет" досказывало пылкое и необузданное воображение девочки.
Уроки кончились, к экзаменационным занятиям ввиду предстоящего говения и праздника Пасхи еще не приступали.
"Хоть бы домой на три дня съездить и то хлеб", — тоскливо слоняясь по опустевшим коридорам (весь институт почти разъехался на пасхальные вакации, за исключением старших, которых не отпускали), мечтала Лида.
Но — увы! — это было немыслимо. Шлиссельбург, где служил инженером Алексей Александрович Воронский, в дни весенней распутицы был отрезан от всего мира. Нева едва вскрылась, и куски льда плыли со стремительной быстротою. Об открытии навигации нечего было и думать, а санный или колесный путь был уже невозможен, от тающего снега образовалась на аршин жидкая и липкая, как месиво, грязь.
Из дома прислали пасхальную посылку, поздравление с предстоящим праздником и обещание приехать к девочке, как только установится река. А пока… Это «пока» терзало и томило Лиду, считавшую себя виновницей несчастья, произошедшего с Фюрст.
Впрочем, не одна Воронская томилась от укоров совести. Весь выпускной класс чувствовал себя не легче Лиды.
"Надо было не допускать этого… Надо было не допускать", — звучало в душе каждой из выпускных.
Одна только Сима-Волька ходила с гордо поднятой головой, и ее молчаливое торжество еще более угнетало девочек.
— Медамочки, что за живодерки наши выпускные, — говорили «вторые», издавна ведущие с выпускными войну "Гвельфов и Гибелинов" за первенствующее место. — Одну «синявку» — Ген в чахотку вогнали, до санатория довели, теперь Фюрстшу взяли измором. И все из-за Воронской! Каждое слово ее — закон. Воронская у них командир какой-то! — и «вторые» ехидно улыбались, встречая «первых» и осведомляясь с утонченной язвительностью о здоровье уважаемой фрейлейн Фюрст.
"Первые" нервничали от этого еще больше, и тоскливая дума угрюмой тучей повисла над классом выпускных.
К исповеди, назначенной в страстную пятницу, готовились вяло, в церкви стояли рассеянно, пели на клиросе плохо, о выпуске говорили меньше. Словом, всех угнетала тоска.
Впрочем, Додошку она не угнетала. Додошка, в силу ли непосредственности своей натуры, в силу ли молодости (ей едва минуло шестнадцать лет), не задумывалась подолгу. В ее душе было, по выражению Воронской, все гладко, как стекло.
Додошка любила вкусно покушать, любила детские книжки с хорошим концом, где никто не умирает, любила романы, где фигурировала свадьба, а еще лучше — две сразу или три. Спиритизмом и сеансами Додошка увлекалась потому, что это было модно. А Додошка любила делать то, что делали другие, — иными словами, на языке институток, "собезьянничать с других".
Теперь новая забота, новая мысль забрела в голову Додошки. Девочка слышала признание хохлушки в том, что у нее есть жених, и маленькая «обезьянка» захотела удивить класс точно так же, как и Мара. Чем она, Додошка, хуже Мары и почему у нее не может быть тоже жениха?
Жених! Это так хорошо звучит, так гордо, так веско! У малышей-девчонок не может быть женихов. Они только у взрослых барышень. А стать как можно скорее взрослой барышней — о! — это была тайная и заветная мечта Додошки.
"Вот удивятся-то наши, если им сказать, что я тоже, как и Мара, выхожу замуж, что я невеста, — мечтала Додошка — чудо как хорошо… Но только у меня-то уж жених не будет, точно простой мужик в белой вышитой рубашке. Нет! На нем непременно должен быть блестящий мундир лучшего гвардейского полка, и усы, и шпоры; непременно усы. Безусый жених — мальчик и ничего не стоит… Нет, непременно надо шпоры и усы"…
И Додошка так увлеклась этой идеей, что уже видела себе невестой в белом платье с тюлевой вуалью и веткой флер-д'оранжа в волосах, а рядом — статного высокого красавца с усами a la Тарас Бульба, в блестящем гвардейском мундире.
Вечером, после того как дежурившая m-lle Оттель, пожелав девочкам спокойной ночи, «закатилась» в свою комнату, Додошка дернула за одеяло свою соседку Воронскую и без всяких прелюдий объявила во весь голос:
— А у меня тоже есть жених. И я тоже выхожу замуж…
— Отстань, Додошка!.. Я хочу спать… И что ты врешь? Какой у тебя жених? Может быть, пряничный гусар из фруктовой лавки? — насмешливо отозвалась Лида, которую прервала ее неугомонная соседка на печальных, докучных мыслях о больной Фюрст.
— У Додошки жених! Недурно! — рассмеялась на своей постели Малявка. — Смотри не съешь его, Додик, не проглоти, как ты глотаешь леденцы.
— Не остроумно, совсем даже плоско, — разозлилась Даурская и уже хнычащим голосом добавила:
— Ей-Богу, честное слово, у меня есть жених… Красивый, в мундире, со шпорами, усы в струнку…
— Даурская, не приемли имени Господа Бога твоего всуе. Во время говения грешно божиться и врать, — отозвалась Карская со своей кровати.
— Ну уж ты молчи, священник в юбке, — чуть не плача от злости, огрызнулась Додошка. И тотчас же подхватила, горячась:
— И свинство, собственно говоря, это: раз у Мары есть жених и у меня тоже быть может. И я могу замуж выйти… Ясно, как шоколад…
— Даурская, молчи!.. Ты врешь, и это тоже, как шоколад, ясно… А впрочем, завтра ты покажешь нам карточку твоего жениха, а теперь дай спать… Не до болтовни сегодня… — и креолка положила руку под голову, всеми силами пытаясь заснуть.
Вскоре желанный сон обвеял спальню.
Заснула тревожным сном и Лида Воронская. Заснула и Додошка с мыслью, где достать портрет воображаемого жениха.
Было раннее утро. Солнце врывалось в окна. Институтки, администрация, прислуга крепко спали. Только в полутемном нижнем коридоре, где помещалась квартира начальницы, селюли, перевязочная и лазарет, высокий, атлетического сложения ламповщик Кузьма, или Густав Ваза, по прозвищу институток, заправлял лампы. С грязной тряпкой в руках, в грязном переднике, с всклокоченною со сна шевелюрой он имел вид не то морского пирата, не то бандита.
Густав Ваза усиленно тер лампы суконкой и мурлыкал что-то себе под нос. Он был так увлечен своей работой, что не заметил, как толстенькая девушка в зеленом, кое-как застегнутом платье, с теплым платком, укрывавшем ее с головой, осторожно приблизилась к нему и встала подле.
Кузьма очнулся, только когда девочка тронула его за плечо:
— Густав Ваза, то есть Кузьма… я хотела сказать, не пугайтесь, пожалуйста, я — Додошка… то есть Даурская… вы меня знаете, Кузьма… Я — выпускная…