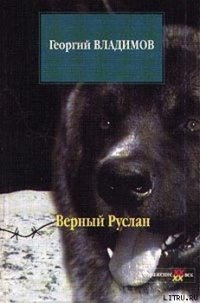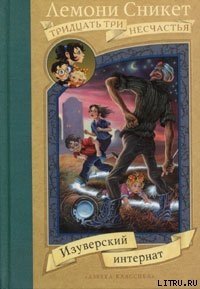Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
— Тогда, — рассказывала она, — мальчишки тоже носили галифе и в селе, и в городе. Но не из шика (тут, по-моему. Катя впадала в ошибку, типичную, когда люди одного поколения берутся судить о другом, младшем: не так сладко жилось и нам, и наши галифе по сути тоже были осознанной необходимостью — не пропадать же добру!), а потому что их отцы порой не успевали сносить фронтовую одежду, умирали от ран и контузий. В сорок пятом во всем нашем квартале, — продолжала Катя, — не вернулся только мой отец, а уже в сорок шестом еще трое ребят схоронили отцов, переоделись в галифе и гимнастерки. Война навьючила на нас взрослые одежды, дела и даже горе тоже на вырост, но мы все равно жили весело. Зимой — после войны стояли богатые зимы — ходили на речку и делали там кучу-малу, катались с кручи. Не на санях — саней было мало. В корзинках. В две круглые плетеные корзины вмещался весь класс. Правда, чтобы не вылететь из нее, надо было держаться за нее зубами, и то: начинаешь ехать в корзине, а заканчиваешь на собственном пузе…
В корзинах? Вот это было понятно — тем более что никто из нас в корзинах не катался. Это нас зацепило. В субботу приволокли в класс несколько плетеных корзин. Катя заставила облить их водой и выставить на мороз. Уроки закончились рано, и после них Катя пошла с нами на пруд кататься в корзинах с гребли. Это было катанье! Это была куча-мала! Корзины со свистом неслись по крутому обледеневшему склону над заснеженным прудом, при этом бешено крутились, и мы вылетали из них, словно это были не безобидные плетенки, а шипящие сковородки. Хочешь удержаться в полете — как можно крепче вцепись в товарища. Или в подругу.
Катя незаметно ушла, мы же бесились на гребле допоздна: свист, вопли, визг, хохот. И — полет, когда лишь сила сцепившихся рук может пересилить центробежную силу.
Все равно что лететь не на крыльях, а на пропеллерах Аэрофлота.
Мир в классе восстановлен. Любовь и попутное ей чувство товарищества возвратились к молекулярному равновесию.
В нашем классе трудно болеть. Детские болезни Катя знала наизусть, они были для нее одушевленными, персонифицированными, что помогало ей ненавидеть их, как личных врагов. Если ты заболевал, она через все село тащилась к тебе с таким свирепым лицом, с каким Дон Кихот Ламанчский скакал на свой первый поединок в золотом шлеме, том самом шлеме, который оказался помойной посудиной из общественной цирюльни. В таких гигиенических условиях трудно подцепить воспаление хитрости. Село наше длинное: две негустые, скорее даже пунктирные улицы протянулись в степи на десяток километров, а Катя жила на окраине, и только отпетый человек мог заставить ее без нужды делать такие концы, да еще с такой ношей на лице. Болели ее дети — и она болела. Болели мы — она тоже болела.
Когда в шестом классе, весной, мы с Федей Дениловым украли из военного кабинета мелкокалиберную винтовку и двести патронов к ней — хотели рвануть в далекие края и только ждали настоящего тепла, — то я был счастлив, что Катя в декретном отпуске. В школе переполох, все искали винтовку, каждый день заседал военизированный, с присутствием участкового милиционера, педсовет, члены учкома щеголяли жутко озабоченным видом, а уроки в каждом классе начинались одинаково: «Ребята, может, кто знает, видел? Передайте; пусть подбросят винтовку, ничего не будет, пусть только подбросят…» Мы же с Федей ходили с честными лицами, и никакие мольбы нас не пронимали, пока винтовку не увидела на потолке (так у нас именуются чердаки) моя мать, и удары судьбы обрушились сначала на наши задницы, а потом, волею педсовета, и на головы. Не знаю, сумели б мы так долго таскать в наших дырявых портфелях свои честные лица, надевая их возле школьных ворот (перед употреблением отряхнуть от крошек и табака!), если бы в классе нас ждала Катя.
Однажды на уроке подожгли серу. Химичка показывала опыты, после урока попросила отнести серу в физкабинет, отчего та воспламенилась. Это был последний опыт в ее серной жизни, и Ванька Мазняк проделал его с большим мастерством: через три минуты, как раз к началу следующего урока, в классе был ад кромешный. Вся школа сбежалась посмотреть и понюхать опыт. Вошедший было в класс учитель истории Михаил Александрович — следующим был его урок — тут же покинул его, ибо это был не класс, а сплошная дымовая завеса. Бородинское поле в шесть утра двадцать шестого августа 1812 года…
Потом в класс пришла Катя. Отправила девчонок погулять во двор, а нас заставила открыть окна и сама провела с нами урок истории (Михаил Александрович наотрез отказался). Это был урок десяти историй. Катя ничего не рассказывала и не объясняла, она только спрашивала, сверяя ответы по книжке, и это было очень трудным делом: на ходу состряпать правдоподобную историю о том, почему не выучен урок. Катя спрашивала с таким буквализмом и пристрастием (со временем я убедился: самые жестокие экзаменаторы — дилетанты с учебниками в руках), что урок оказался не выученным никем.
Она оставила нас, мальчишек, после уроков (после второй смены!), выстроила в коридоре, сама расположилась в директорском кабинете и, как приказный дьяк, начала расследование. Вызывала по одному и спрашивала, кто поджег серу.
— Не я, — отвечал каждый и выходил из кабинета к товарищам с явным торжеством и скрытым облегчением.
После пригласила в кабинет всех. Поскольку ни у кого из нас не было большого желания заходить в эту исповедальню, она заводила каждого сама, за рукав, держась за него двумя пальцами, как будто мы были гриппозными.
— Вы все — доносчики, — сказала нам без каких-либо победных ноток в голосе. — Вы все доносчики, и я не знаю, что с вами делать. Каждый из вас донес на каждого. Противно.
Встала, прошла мимо нас, сидевших с тем выражением на лицах, которое легко можно принять и за оскорбленную честность, и за искреннее раскаяние, вышла из директорской. Потом вышла из школы. В тишине, какая бывает в школах только после второй смены и только во время тщетных пыток в директорских кабинетах, мы отчетливо слышали стук ее каблуков по деревянным ступенькам. Еще через минуту пронесла свой скорбный курносый профиль мимо окна директорской и исчезла в светлых весенних сумерках.
— Вот зараза, — тоскливо сказал Ванька Мазняк, потому что героем себя уже не чувствовал, как, впрочем, и каждый из нас.
У нее были свои вывихи и, конечно, не от избытка ночных бдений над Макаренко или Ушинским. Сейчас я, например, понимаю, что допрос в директорской тоже вывих, но если она однажды назвала меня лицемером, то это я запомнил на всю жизнь, хотя меня не раз еще и по-разному называли и другие учителя.
В классе опять была какая-то заваруха, какой-то коллективный сговор, причем на Катином уроке. После урока я подошел к ней и что-то сказал, желая ее утешить, как-то облегчить ее вечное «что делать?». Она подняла голову и медленно, тихо, чтобы слышал только я, произнесла:
— Ты лицемер, Гусев.
И я почувствовал гадливость к самому себе.
Хотя ласковых слов слышал от нее больше, чем от кого-либо другого. И когда умерла мать — а в интернат Катя везла меня месяца через три после ее смерти, — она, единственная из всей школы, пришла на похороны и, обхватив нас троих, материных детей, из которых мне, старшему, было тринадцать, а самому младшему — пять, плакала навзрыд, приговаривая свое «что же делать, что делать?». И когда везли мать на кладбище, я все время видел с машины учительницу, шедшую в поздней декабрьской грязи в толпе доярок и скотников, шоферов и разных других представителей неруководяших сельских профессий.
Спроси меня, как хорошо вела она свою математику, я и не отвечу. На олимпиады от нее мы не ездили. Да и трудно было ездить от нее на олимпиады, потому что Катя закончила педучилище, а в институте еще училась — заочно. (Лет семь назад встретился со своим племянником, спросил у него, как там Екатерина Петровна. «Катя, что ли? — переспросил племяш. — Не было ее с месяц, потом приехала, приходит в класс и говорит: «Поздравьте, диплом получила. Слава Богу, выучилась…» Она у нас классная руководительница».)