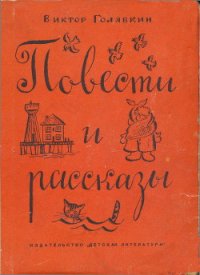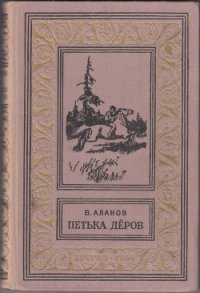Повесть о красном орленке - Сидоров Виктор (читать книги полностью .TXT) 📗
Хорошие места, красивые. Но сколько ни смотри на них из окна — веселее не станет. Вот, бы побродить там, полазить — другое дело.
Артемка соскочил с лавки, босиком сбегал по жгуче холодной земле в сарай, заглянул в чулан: нет, никакой обуви не отыскалось в пыльных сундуках, набитых старым барахлом. Забрался на чердак, увидел сморщенные, смятые отцовы сапоги, обрадовался, схватил их, но — увы! Подметки, ощерившись гвоздями, отвисли почти до самых каблуков, и носки сапог напоминали злые щучьи пасти.
Артемка долго вертел в руках сапоги, раздумывая, что с ними делать. Бросить — значит сидеть дома неделю, а то и две. Починить? Мудрено. Но все-таки решил попробовать — очень уж хотелось выбраться на улицу. Бился над ними долго, а толку никакого. Разозлился, зашвырнул под печь. Помыкался, помыкался из угла в угол и снова сел у окна.
Был бы отец — не ходил бы Артемка без сапог. Да нету тятьки. Ушел в прошлом году беляков бить и пропал. Убили. Под Барнаулом. Об этом рассказал Митряй Дубов. Он вместе с отцом воевал. Ото всех скрывал это, лишь Каревым сказал,—боялся, чтобы в тюрьму или под расстрел не попасть.
Остался Артемка с матерью и бабушкой. Худо живет, бедно, несытно. Какие уж там сапоги!
«Ладно,— думает Артемка,— не помру, дождусь лета, а там и без сапог хорошо».
Мать только что подоила корову и процеживала молоко, бабушка возилась у печи. Надвигался унылый вечер. Дождь еще более усилился и шумел за окном ровно и монотонно. Когда совсем стемнело, бабушка вздула лампу, неторопливо накрыла на стол. Только взялись за ложки, в сенях послышались тяжелые шаги. Все настороженно повернули головы. Дверь открылась, и на пороге появился мокрый, в заляпанных грязью сапогах старик. Мать первая узнала его, обрадовалась:
— Дед Лагожа! Раздевайтесь да с нами за стол.
Дед Лагожа не спеша снял с плеч котомку, скинул шубенку, шапку, сапоги, все это аккуратно развесил и порасставил, затем разгладил ладонями седые волосы и тогда уже степенно произнес:
— Мир вашему дому, добрые люди.
И сел за стол. В избе стало будто светлее и уютнее. Сразу пропало уныние.
Деда Лагожу знали и стар и мал не только в Тюменцеве, но и во многих окрестных селах. Его приходу радовались, как празднику, и огорчались, если дед проходил мимо. Звали его Севастьяном, и имел он неплохую фамилию — Избаков. А кличку получил по наследству от отца, которого сельчане прозвали так за то, что не выговаривал «р» и вместо «рогожа» произносил «лагожа». Давно умер отец, давно Севастьян сам стал стариком, а кличка прилипла, что твоя смола. Забыли люди имя-фамилию деда: Лагожа да Лагожа.
Всю молодость свою он потратил на обзаведение хозяйством: хотелось пожить зажиточно, да так и не удалось. Все добро-то — коровенка в захудалой стайке. Как был бедняком, так и остался.
А когда умерла жена, дед Лагожа совсем забросил хозяйство: корову продал, а избу отдал бедной вдове с тремя ребятишками.
— Живи, тетка, да меня поминай, а я в люди пойду. Все одно не быть мне хозяином...
С тех пор, вот уже лет пятнадцать, живет дед Лагожа у людей: сегодня у одного, завтра у другого. И не каким-нибудь нахлебником, а добрым работником.
Золотые руки у Лагожи. Если стол нужен — сделает. И сундук смастерит, и кросна изладит. И ни копейки денег не берет. У кого работает, тот и кормит деда, у того он и ночует. Село обойдет — в соседнее подастся.
Бывает, что год, а то и полтора не видать Лагожи. Зато как вернется — всем радость. И не потому, что у каждого дел скопилось для деда, а потому, что приносил он с собой множество интересных новостей и рассказов, собранных по селам, у случайных встречных на длинных степных дорогах.
Артемка сразу смекнул, что дед поможет ему выбраться на улицу — хоть какую ни на есть, а изготовит для него обувку.
Как только поужинали, Артемка сразу же за отцовы сапоги.
— Сделай, дедушка. Ходить не в чем...
Мать было прикрикнула:
— Оставь, Темка. Дай человеку отдохнуть.
Но Лагожа спокойно взял сапоги:
— Не ругайся, мать. Не устал я, а мальчонке, видать, надоело дома...
Он взял свою котомку, вынул из нее и молоток, и гвозди, и лапу, и кожу на подметки. Присел на опрокинутую набок табуретку, размочил головки и застучал неторопливо. Мнет кожу, постукивает молотком, а сам между делом рассказывает:
— Из Андроновой я сейчас... Ты, бабушка, чай, помнишь Свиридиху?
— Как не помнить? — обрадовалась бабушка.— Помню, помню! В девках еще певали с ней. Голосище был!
— Преставилась она. Третьего дня схоронили.
Бабушка так и ахнула:
— Да неужто?
— Схоронили. От тоски, поди, померла. Сынка ейнова колчаковцы застрелили. Будто бы против властей шел...
Мать качнула головой, трудно вздохнула:
— Боже мой, что делается на свете...
Артемке тоже не по себе: как это можно, взять и застрелить человека! Он было хотел порасспросить Лагожу обо всем подробнее, но тот уже повествовал о какой-то красавице Феньке, которая вышла замуж за богатея, но дурака Фому Ощепкова, о том, что хлеб сильно вздорожал и еще больше вздорожает, потому что власти выгребают из крестьянских сусеков последнее зерно.
— Слышь, Ефросинья, тревожно в степи-то. Лютуют колчаки. В Трезвоновой мужиков много попороли за то, говорят, что коней в обоз не отдавали. В тюрьму двух забрали. А в Киприно три избы спалили. Дьявол бы их взял... Откуль только принесло их на нашу голову?
Помолчал Лагожа, осматривая наживленную подошву, отложил сапог, чтобы свернуть самокрутку.
Мать сидела за столом, подперев рукой голову, задумчиво глядела в темное окно, бабушка неслышно домывала посуду. Артемка смотрел на деда .широко открытыми глазами, в которых спряталось беспокойство. А Лагожа уже за второй сапог взялся.
— Волнуется народ. Ропщет. Кой-где за топоры хватается. В Черемшанке двух карателей колчаковеких того... порешили.
— Как же это? — ужаснулась бабушка.— Ить беда на все село падет.
— И то: хватают сейчас мужиков и порют. Дознаться хотят, кто порубил.
Сунул дед в рот десятка полтора гвоздей и пошел вбивать их в подошвы. Левая рука едва словчится выхватить изо рта гвоздь и поднести к подметке, а правая уже вгоняет его молотком. Не успел Артемка надивиться дедову мастерству, а у него уже рот пустой.
— Деда, а за что они колчаковцев-то?
— Кто их знает... За добро не убьют.
— А того, сына Свиридихи, за что?
Мать снова прикрикнула:
— Отцепись от человека. Дай послушать.— А потом тихо, тоскливо: — Когда эта жизнь кончится? Нет ни дня покоя. Горе да слезы.
Дед согласно закивал:
— Это верно. Побесился, чай, народ. Волком глядит каждый друг на друга. Чуть заплошал — хвать тебя оземь... В Касмалинских борах, сказывают, партизаны какесь объявились.
— Что за партизаны? — подняла брови мать.
— Бог ведает. Против властей бунтуют, беляков гоняют, богатеев зорят...
Артемка так и подался к деду, выдохнул сипло:
— Разбойники?
— Да будто и нет,— протяжно ответил Лагожа.— Сказывают, пообиженные мужички да дезертиры собрались ватагой и нападают.
Артемка смотрит на деловитые руки деда и диву дается: как эти мужики, партизаны, что ли, солдат не боятся? Утех винтовки, гранаты и даже пулеметы есть. А у мужиков что? Видать, смелые мужики-то.
— Что запритих? — вдруг донесся до Артемки дедов голос.— Принимай-ка обувку.
Артемка встрепенулся, схватил протянутые Лагожей сапоги.
— Ой, какие! — только и смог произнести от радости.
Сапог не узнать: совсем как новые стали, с блестящими толстыми подметками, с надбитыми каблуками, на которых сверкают подковки. Лагожа смазал сапоги дегтем, и кожа теперь стала мягкой, почти расправилась от вмятин.
— Спасибо, деда...
Лагожа ласково улыбнулся:
— Носи на здоровье, Темушка...— А потом вдруг хлопнул себя по лбу: —Ну память! Совсем забыл,— и вынул из бокового кармана пиджака вчетверо свернутую газету.— Ты грамоте знаешь?