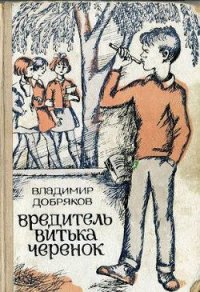Рыжий - Боровский Федор Моисеевич (читать книги полные .txt) 📗
Но тут мой взгляд случайно наткнулся на раскрытую тетрадь, и я прочел совершенно бессмысленную фразу: «Шалун уж заморозил пальчик…» Прочитанное до меня не дошло, но мечтанья перебились, и я совершенно автоматически читал дальше: «…Ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно».
Постой, постой, это как же так? Ну-ка, сначала.
Ха! Ничего себе! Это что же за стихи такие? Пушкин… Это который — «У лукоморья дуб зеленый», и еще про Балду, и о семи богатырях. Ну, ясное дело — выдумщик. Только на этот раз он хватил: у ужа — пальчик. Пальчик! Когда у него не только пальцев, но и рук-ног нету. Специально он его себе вырастил, что ли? Вырастил и тут же отморозил, растетёха этакий! Недаром ему мать в окно грозит. А чем она, интересно, грозит? Хвостом? Нет, наверное. Если маленький уж сумел отрастить себе пальчик, то мать небось целую руку вырастила и этой рукой ему грозит.
Я попытался припомнить все стихотворение, но припомнил только одну фразу, которая еще больше запутала дело:
Вот это история! Я забыл даже, что хочу есть, уставился в потолок и напряженно думал, пытаясь и деталях представить себе, как все это там происходит. Итак, значит: уж отрастил себе палец, посадил в салазки Жучку, а сам преобразился в коня. Преобразился — это, наверное, превратился. Конечно же, превратился. Иначе ему не то что Жучку, а и пустые салазки с места не сдвинуть. Куда там — ужу, да еще маленькому. К тому ж какая Жучка станет знаться с маленьким ужом. Она чихнет, и его сдует вместе с замороженным пальчиком. Постой, постой, а откуда известно, что он уж, если он конь? Впрочем, тут, похоже, все ясно: мать-то знает, уж он или конь, если в окно ему грозит. Это Жучка-дура ничего не понимает. А с пальчиком и вообще проще простого: коли змея смогла себе пальчик вырастить, то конь и подавно, у коня хоть ноги есть. Вырастил и тут же заморозил. А может, раньше вырастил, когда еще ужом был. Ничего парень, хоть и уж. Палец заморозил, а не ревет. Определенно не ревет, раз ему смешно.
Что ж, такое интересное стихотворение стоило выучить, тем более что меня все время не оставляло смутное ощущение ошибки. Я ведь учил его только что и никакого ужа не заметил. Правда, и не помнил, что же именно я заметил, но что-то тут было не так. Я совсем собрался взяться за него всерьез — для этого и нужно то было лишь в тетрадку заглянуть, но не успел. Вернулся брат с мешком крапивы и замаячил мне прямо с порога, засигналил и руками, и лицом, и головой. Что-то у него там произошло, и требовалась моя помощь. Уж со своим пальчиком в таком случае и со своей матерью тоже прекрасно подождут — они-то никуда не убегут, а дело может и убежать, разве не бывало?
Я вылез из-за стола.
— Ага, — наконец увидела брата и мама. — Уроки сделал?
— Сделал.
Мама вопросительно поглядела на меня.
— Сделал, сделал, — подтвердил я, надеясь под его марку и сам удрать без объяснений. Но маму было не пронести.
— А ты чего вылез? Тоже все сделал?
Что мне оставалось? Я действительно много сделал, но не все, то же стихотворение про ужа хотя б. И если бы мама стала проверять, я бы, конечно, влип. Но кто не рискует, тот не выигрывает.
— Сделал, — храбро соврал я.
— Ну ладно, — согласилась мама, — бегите. Отца только не прокараульте.
Мы выскочили на террасу.
— Что? — нетерпеливо спросил я.
— Пищит, — кратко ответил брат.
— Кто пищит?
— А я знаю? — возмутился он. — Я крапиву рвал, а он пищит и пищит.
— И не посмотрел?
— Ага, — сказал он, — а вдруг там змея?
— Эх, ты… Змеи не пищат, змеи шипят.
— А ты всех змей видел, да? — опять возмутился он.
— Всех видел. Гадюку видел, медянку видел, желтопузика видел, и… Я на мгновенье замялся, вспомнив дурацкое стихотворение, и выпалил: — Ужей.
— А ты гремучую змею видел? — не обращая внимания на мою заминку, тут же ринулся в атаку брат.
Я подосадовал на себя. Гремучую змею я действительно не видел — про них нам рассказывал отец, да они у нас и не водятся, но вспомнить-то я должен был сам или как?
— Ну и что? У нас гремучие не водятся. У них погремушки на хвосте, они греметь должны, а не пищать.
— А ты видел? А ты знаешь?.. — не сдавался брат.
Я вскипел. Он что, напугать меня думает? Сам струсил и меня пугает? Я махнул рукой и, спрыгнув с террасы, завернул за угол на тропу. Брат помчался за мной.
Едва очутившись на тропе, я тут же понял, почему брат испугался, — такой это был писк. Будь я таким же карапузом, как он, тоже, наверное… Ему всего-то семь, и он у нас вундеркинд. Он пошел в школу с шести и уже учился во втором классе; я был в четвертом, и мне должно было стукнуть десять — я, верно, тоже пошел в школу годом раньше срока, но он-то — целыми двумя. И потому в обучении он меня маленько догнал и еще бы догнал, но у мамы с отцом ничего не вышло. До времени во второй класс его не перевели, посчитали слишком маленьким, хоть он уже к тому времени свободно читал и кое-что понимал в арифметике; ему скучно было и в первом классе, и во втором, однако тут уж ничего не поделаешь.
Но какой он там ни вундеркинд, а из сосункового возраста еще не вышел, и мудрено ли, что его испуг взял. Говорю же: мне тоже стало не по себе, когда я услышал тот писк. Он был непрерывный, яростный и какой-то деревянный, вроде игрушки «уйди-уйди». Даже еще, пожалуй, деревянной. Если быстро крутить скрипучее колесо, будет очень похоже. И еще — отчаянный напор, ярость, словно неизвестный пискун что-то требовал прямо с ножом к горлу: отдай, дескать, а то зарежу. Если бы не этот свирепый напор и не деревянный голос, можно было бы подумать, что там котенок пищит. Но нет, не похоже — что я, котят, что ли, не слыхал? Они тоже верещат будь здоров, но в их голосах всегда слышна просьба, мольба, голоса у них нежные, беспомощные, сразу видно, что какое-то маленькое, беззащитное существо жалуется и просит внимания. Ну ничего совершенно похожего даже близко не лежало.
Я мгновенье колебался и прислушивался, но брат сопел, прижавшись к моему боку, и перед ним нельзя было ронять марки. Я решительно шагнул в лопухи.
И все-таки это был котенок. Да к тому же маленький, и месяца, наверное, не исполнилось. Он сидел под лопухом и орал в небо, широко разевая бледно-розовую пасть с маленьким чистеньким язычком и крохотными зубками. Все его тщедушное тело содрогалось от крика, и просто удивительно было, как уместился в таком тощем, жалком теле такой напористый деревянный голос. Я протянул руку, чтобы взять его за шиворот, но не успел: он подпрыгнул и повис на моей руке головою вниз, вцепившись в кожу всеми двадцатью когтями. И то ли он был слишком слаб, то ли просто ловкий такой, но при этом он не оцарапал меня нисколько, даже следов на коже не оставил. Вцепился и быстро-быстро пополз по руке к локтю, а когда я сообразил отдернуть руку, он перевалился с нижней стороны на верхнюю и уселся на локтевом сгибе. Я ощутил только легкие щекотные покалывания, волной прокатившиеся по коже, словно по мне паук пробежал. И при этом он не переставал орать ни на мгновенье. От щекотки меня передернуло всего, он едва не свалился и вцепился уже по-настоящему, до крови.

— Ой, ой! — закричал я и, поддерживая его свободной левой рукой, задом выполз из лопухов.
Брат стоял на тропе с горящими от возбуждения глазами, перетаптывался и тянул шею.
— Эх ты… — снисходительно сказал я. — Вот она, твоя гремучая змея.
— Дай… — он облизнулся и потянулся потрогать.
Котенок шарахнулся от него и снова вцепился мне в руку. Он орал и орал, ничуть не успокоившись, и дрожал всем телом. То ли ему холодно было, то ли напугался. А может, просто голодный. Я вдруг вспомнил, что тоже голодный. И так сразу засосало под ложечкой — белый свет померк, так вдруг заурчало в животе, громко, на весь мир. Господи, ну почему я не могу поесть вволю, ну почему! Уже который день, или который год, или который месяц, и нет им конца! Дайте же мне что-нибудь, неужели я всю жизнь буду ходить голодный и никогда больше не узнаю, как это — быть сытым несколько дней кряду? В чужой бы сад сейчас и жрать, жрать, чавкать — да где же он, этот чужой сад? Холодный пот катился по моему телу, котенок опять вцепился мне в руку. Стало больно, и я услышал его яростный деревянный писк. Все вокруг было в порядке, стоял солнечный теплый вечер, и лопухи чуть слышно шуршали за моей спиной, и брат взволнованно таращил круглые глаза и тянулся к котенку. По-моему, он ничего не заметил, и это было хорошо, но я был весь мокрый, словно искупался только что, и трусы противня липли к мокрому телу.