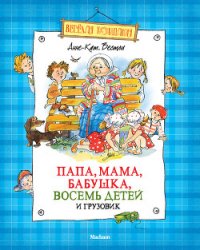В рассветный час - Бруштейн Александра Яковлевна (полные книги TXT) 📗
— Занатто (слишком) распустилась! Звестно дело, один ребенок, одынка! Никто не серчает, никто не ругает… Думаешь, всегда одынкой будешь? Вот скоро мамаша другого ребеночка родит, та еще и сына! От тогда заплачешь…
Я очень обрадовалась! Стала без конца приставать к Юзефе с расспросами: когда же это будет? Когда мама родит нового ребеночка? Откуда Юзефа знает, что он будет сын, а не дочка? Наверно, Юзефе надоели мои приставания, и, чтобы отвязаться от меня, она сказала, что просто пошутила. Я немножко огорчилась: мне очень хотелось иметь брата или сестру Потом прошло еще сколько-то времени, и я совсем позабыла об этом разговоре. Ну, не будет — значит, и не будет, о чем же еще вспоминать!
Иногда папа говорил мне по разным поводам:
— Не приставай к маме!
Или:
— Не буди маму, дай ей поспать!
Или еще:
— Не толкай маму, не наваливайся на нее! Не позволяй ей наклоняться. И не карабкайся к ней на колени, как на дерево!
Но все это не казалось мне странным. Ну конечно, к маме не надо приставать зря (а я ведь частенько пристаю! да еще по каким пустякам!). Не надо будить маму — это же свинство: человек спит, а ты его будишь! Не надо толкать маму и наваливаться на нее. И нехорошо, чтобы старый человек наклонялся, надо поднять с полу то, что ей нужно. (В глубине души я считаю, что мама очень старая, ей ведь уже целых тридцать лет!)
Не так давно мы коротали вечер втроем: мама, Поль и я. Поль что-то вязала крючком, а мы с мамой играли в «театр». Я надела на себя мамин капот, обвязала голову полотенцем, как чалмой, и орала на весь дом:
— Сюда, сыны ада! Сюда!
Затем, дождавшись, пока прибежали воображаемые сыны ада, я стала тыкать пальцем в сторону мамы и мрачно рычать:
— Эта женщина — враг! Она предаст всех нас! Принесите гранаты, кипящей смолы — мы ее сожжем!
Я старалась изо всех сил, шипела, прыгала, подкрадывалась к маме (все это я незадолго перед тем читала в одной книге), но мама сидела совершенно спокойно, словно она и не слышала моих воплей и криков. Отсутствующими глазами мама уставилась куда-то в сторону самовара, стоящего в углу на столике. Уж не знаю, чем ей этот самовар вдруг так понравился!
Наконец я не выдержала и сказала маме с обидой:
— Ну, почему ты так сидишь, как будто ты меня не видишь и не слышишь? Ты должна ужасно испугаться, упасть на колени. Ты должна просить жалобным голосом: «О великолепный! О роскошный предводитель разбойников! Умоляю вас, пожалейте моих маленьких детей!..» Ну вот, ты вдруг еще и улыбаешься ни с того ни с сего! Твоих маленьких детей хотят бросить в огонь, а тебе хоть бы что!
Мама и Поль смеялись все громче и веселее! Я совсем рассердилась и сказала чуть не со слезами:
— Если бы у меня была сестра… или хоть какой-нибудь завалящий брат… Я бы играла не с тобой, а с ними, и все было бы отлично. Со взрослыми невозможно играть!
— А знаешь, — сказала вдруг мама, перестав смеяться, — у тебя, может быть, скоро будет брат или сестра.
— Правда? — обрадовалась я. — Самая, самая, самая правда?
— Самая, самая, самая! — подтвердила мама.
— Ох, тогда будет настоящая игра!
Тут вмешалась Поль:
— Только не забывай: это будет крохотный-крохотный ребеночек! Он еще не будет ни ходить, ни говорить, ни понимать, что ему говорят.
Моя радость немного слиняла. Но тут же я вспомнила рассказы Поля и спросила:
— А как же ты говорила, у тебя был брат и вы всегда играли вместе во все игрь?
— Мы были близнецы, — сказала Поль. — Я была старше моего брата всего на одну минуту. А тебе придется подождать, пока твой брат подрастет.
Я сделала еще одну попытку уладить это дело, попросила маму сделать так, чтобы мой будущий брат (или сестра) были моими близнецами. Мама сказала, что она этого не может.
В общем, я тогда поверила в приращение нашей семьи, но все-таки мне почему-то казалось, что это будет еще о-о-очень не скоро!
В ближайшее после этого воскресенье мама днем, после обеда, чувствует себя нездоровой и ложится в постель Папа приходит в комнату, где я только что кончила готовить уроки к понедельнику и укладываю в ранец все, что нужно мне к завтрашнему дню. Это правило, которому меня научила Поль: все должно быть уложено накануне, чтобы утром, не задерживаясь, схватить готовый ранец и бежать в институт. Еще Поль требует, чтобы я, ложась спать, не разбрасывала свою одежду и обувь как попало, а связывала все это аккуратно в тючок и клала на стуле около кровати: если ночью, например, пожар, — у тебя все готово, пожалуйста, бери тючок с одеждой и беги!
Папа смотрит на то, как я укладываю в ранец задачник Евтушевского, грамматику Кирпичникова, французский учебник Марго. Глаза у папы отсутствующие, он чем-то озабочен.
— А у мамы… — говорит он, глядя поверх моей головы, — у мамы, по-видимому, ангина…
— Мама больна? — И я бросилась к двери, чтобы бежать к маме.
Папа перехватывает меня на бегу:
— Ох, какая беспокойная! Ангина — это заразительно, нельзя тебе туда. Я даже подумываю, не отправить ли тебя на денек к бабушке и дедушке… А? Подумай, Пуговка, к бабушке к дедушке! Хочешь?
В другой раз я бы очень обрадовалась… У бабушки и дедушки все мне рады, бабушкины лакомства — замечательные, и все счастливы, если я ем их как можно больше Но сегодня мне почему-то беспокойно: мама больна, и даже зайти к ней нельзя…
— Папа, а мама выздоровеет? Ангина — это не очень опасно?
— Вздор какой! Ну, переночуешь сегодня там. А может быть, еще сегодня вечером мы пришлем за тобой Юзефу.
Мы с Полем идем к бабушке и дедушке. Я несу свой ранец и замечательную новую книгу — «Серебряные коньки». Поль несет в руке узелок с моей ночной рубашкой, зубной щеткой и другими необходимыми «причиндалами». Я прощаюсь с мамой через дверь. Юзефа двадцать раз целует меня, как будто я уезжаю навеки в Африку.
Ни бабушки, ни дедушки мы дома не застаем. В доме есть только их новая служанка, которой я раньше никогда не видала. Глаза у нее добрые, приветливые, немного испуганные. А когда она улыбается, то улыбка эта расплывается полукружьями от подскульев к крыльям рта — мягкая улыбка, ласковая.
Поль уходит — она торопится на урок, — и я остаюсь одна с незнакомой служанкой. По-русски она говорит затрудненно, не сразу подбирая слова, но понять ее можно. Она только неизменно говорит про женщин: «она пришел», а про мужчин: «он пришла». В общем, сговориться можно, тем более что я понимаю по-еврейски.
Заглядывая мне в лицо своими добрыми глазами, служанка спрашивает:
— Може, хочете кушать? Там один каклет… ув буфет… Га?
— Нет, я обедала… А как ваше имя? — спрашиваю я.
— Ой, не надо! — пугается старуха.
— Почему?
— Вы будете с мене смеяться… — И, неожиданно застыдившись, она даже прикрывает лицо передником.
— Я не буду смеяться… Скажите!
— Мой имя «Дубина».
Никогда я такого имени не слыхала! То ругательство, а не имя. А старуха, видя мое изумление, объясняет:
— От так… Скольки я живу, — много лет! — все Дубина и Дубина! «Ой, что это за дубина — молоко убежал! Ой, дубина, мясо сгорел! Дубина, обед готов? Дубина, ты купил курицу или ты не купил курицу?» И, знаете, — она тихонько смеется, — я тоже так теперь говорю. Прихожу домой с базар, стучу в дверь, — оттуда спрашивают: «Кто там?» А я говорю: «Это я, Дубина…»
— Так это же не имя! — пытаюсь я объяснить.
Она тихонько смеется про себя.
— А я привык, — говорит она. — От я пошел у полицию… насчет паспорт… Околоточный кричит: «Бася Хавина! Бася Хавина! Игде Бася Хавина?» А я сижу, я забыл (она произносит «забул»): Бася Хавина — это же ж я! Я сидел, думал, околоточный меня позовет: «Игде Дубина?» Я привык…
— Я вас буду Басей звать, — говорю я.
Она осторожно гладит меня по голове:
— Как себе хочете, барышня…
— Бася, мой папа не позволяет, чтоб меня «барышней» звали. И мама тоже не позволяет. Я не барышня, я — Сашенька…
— Шасинька… — повторяет она и вдруг прижимает к себе мою голову. — Шасинька…