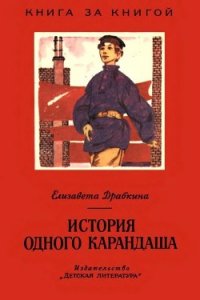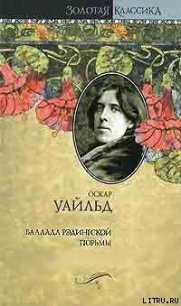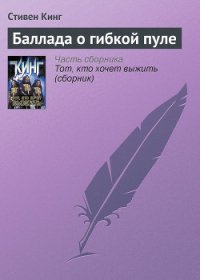Баллада о большевистском подполье - Драбкина Елизавета Яковлевна (книги .TXT) 📗
Оборудованы подпольные типографии были самым разным образом Некоторые так примитивно, что им не позавидовал бы см Гутенберг. В них не было даже вала, и, чтобы получить оттиск, формочку с набором устанавливали на стул, накладывали бумагу, а затем кто-нибудь на нее садился и нажимал на эту бумагу «естественным прессом». Букв не хватало. Во время набора, который производился, конечно, вручную, то и дело слышался шепот: «Вася, дай мне прописное „К“; Нина, у тебя есть точка с запятой и восклицательный знак?»
Но не все типографии были такими. С течением времени в партии выработалось немало специалистов «тайной печати» — таких, как братья Енукидзе. Созданные ими подпольные типографии не уступали качеством печати типографиям легальным.

Как и во всяком подобном деле, в работе подпольных типографий случались порой неожиданности, каких не могла бы придумать самая богатая фантазия.
В 1907 году Сергей Миронович Киров, только что освобожденный из Томской тюрьмы, занялся вместе с тремя товарищам устройством типографии.
Им удалось снять прекрасное, с точки зрения конспирации, помещение — дом некоего врача, находившийся на краю города. Устраивали типографию в подземелье. Работали весьма упорно.
Помещение было уже почти готово, уже привезен и установлен на место типографский станок. И вдруг в одну ночь явилась полиция. По тому, как велся обыск, видно было, что на след навел провокатор: полицейские искали именно типографию. Но, как ни тщательно они искали, обнаружить ее не смогли, ибо между потолком подземелья и полом дома был насыпан слой земли около метра толщиной, а вход в подземелье тщательно замаскирован. Все же жандармы арестовали работников типографии и препроводили в тюрьму.
Следствие велось долго, улик так и не нашли — и жандармы освободили арестованных. Всех, кроме Кирова.
Полиция давно его безуспешно искала. Еще в 1902 году, шестнадцатилетним юношей, он установил связи с революционными подпольными кружками. Затем устроил на огороде, в бане, самодельный гектограф, на котором печатал прокламации. Начало революции 1905 года застало его в Томске. Он шел в первых рядах демонстрации протеста против расстрела 9 Января. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, открывшими стрельбу. Рабочий Кононов, который нес знамя, был убит. С присущей ему смелостью Киров разыскал труп Кононова, чтобы полиции не досталось спрятанное Кононовым на груди простреленное красное знамя. Киров спас это знамя, и оно стало боевым знаменем Томского комитета партии.
За это дело и еще за ряд старых дел Кирова продержали после ареста несколько месяцев в тюрьме. Потом состоялся суд, который приговорил его к трем годам одиночного заключения в крепости. Время, проведенное в тюрьме и в крепости, он использовал для самообразования, хотя, как рассказывал он потом, сидеть в одиночном корпусе было нелегко: по ночам тюрьма часто не спала, прощаясь со смертниками, которых уводили на казнь.
По отбытии срока крепости Киров переехал в Иркутск, и тут совершенно неожиданно товарищи передали ему малоприятную новость: в доме, в котором он когда-то устраивал типографию, поселился некий полицейский чиновник. Жил он, поживал, но вдруг провалилась печь, а под печью оказалось какое-то подземелье. Тут жандармы вспомнили, как они искали в этом самом доме типографию, раскопали подземелье — и все обнаружили.
Хорошо, что Кирова предупредили вовремя и он успел скрыться из Иркутска и бежать на Кавказ!
Работник подпольной типографии обязан был полностью порвать с внешним миром, не выходить на улицу, не встречаться ни с кем, даже с самыми близкими людьми, даже с товарищами по партии, если они не были связаны с работой типографии. Порой он неделями и даже месяцами не делал ни одного глотка свежего воздуха.
Его жизнь протекала в полумраке, при свете слабой керосиновой лампы. Он набирал, печатал, спал тут же, у типографского станка, ел скудную пищу, знал только свой нервный, напряженный труд, только свою изолированную жизнь, лишенную каких бы то ни было впечатлений, кроме постоянной настороженности и чувства опасности. И единственной его радостью было узнать, что прокламация, которую он набирал и печатал, дошла до рабочих и что где-то на тайных собраниях, на фабриках и заводах, читают пахнущие типографской краской листки, которые рабочие называли «жгучки».
Рабочий завода «Динамо» Д. Барнаков рассказывает в своих воспоминаниях:
«Поступил я на постройку завода в 1901 году, мальчишкой лет тринадцати; сперва разгонял болты, а потом меня взяли учеником в инструментальную мастерскую, и с этого момента я окунулся в кипящий котел заводской жизни рабочего с его борьбой против эксплуатации капитала.
Каждое политическое событие волновало массу и заставляло ответить на произвол царя и его присных. Помню, бывало, утром, когда еще дуговые фонари не зажигались, повсюду были разбросаны прокламации. На верстаках, на станках, на полу лежали белые голуби».
В несколько минут рабочие их подбирали, прятали по карманам и где-нибудь украдкой жадно читали и передавали из рук в руки.
«В каждой забастовке, хотя бы из-за получаса рабочего времени или из-за нескольких копеек заработной платы, мы сталкиваемся с царскими слугами, полицией и войском, точно с каменной стеной, которую не прошибешь…
Только перешагнувши через труп самодержавия, мы действительно поправим свою судьбу.
Товарищи-рабочие! Долой самодержавие!»
Если развернуть во всю длину нескончаемый свиток человеческой истории со всеми ее битвами, поражениями и победами, то воскресенье в девятый день первого месяца пятого года двадцатого столетия выступит на нем, как одна из самых бессмертных исторических дат.
Утром этого дня петербургские рабочие верили в царя, как в бога, и шли к нему с иконами и хоругвями молить о помощи и защите.
Вечером в залитом рабочей кровью Петербурге строились баррикады и звучало: «Долой царя!»
Напомним коротко о том, как развивались события, которые привели к этому дню, прозванному «Кровавым воскресеньем».
Весной 1904 года, в самый разгар русско-японской войны, в Петербурге, на дверях старого барского особняка на Петергофском шоссе, неподалеку от Путиловского и других заводов, появилась вывеска: «Союз фабрично-заводских рабочих». Затем такие же вывески появились и в других рабочих районах Петербурга.
Во главе «Союза» стоял священник Гапон. Впоследствии, в 1906 году, он был изобличен как агент охранки. Он убеждал рабочих, что царь хорош, а если им живется трудно и тяжело, то не по вине царя, а только по вине хозяев-капиталистов.
Правительство полагало, что с помощью таких речей Гапона оно сумеет погасить разгорающийся пожар народного недовольства. Но оно просчиталось: слишком много скопилось недовольства, слишком много было горючего материала.
В подобных случаях для вспышки достаточно незначительного на первый взгляд повода: в канун Нового года в деревообделочных мастерских Путиловского завода мастер Тетявкин уволил несколько рабочих. Третьего января рабочие послали директору завода делегацию с требованием вернуть уволенных рабочих и уволить мастера. Директор разговаривать с делегацией не пожелал. Тогда рабочие стали прекращать работу. Молодые рабочие перебегали из мастерской в мастерскую, крича во все горло: «Бросай работу! Выходи все к конторе!»
Перед конторой собралось тысяч десять народу. Директор почувствовал, что дело оборачивается серьезно. Он появился перед толпой в сопровождении полицейского пристава и предложил, чтоб рабочие прислали в контору своих представителей.
— Нет, — раздались голоса. — Говори при нас…
— Здесь холодно, я не могу, — заявил директор.
— Ничего, господин Смирнов, — ответил ему один из рабочих, — на вас шуба теплая. Мы вот рыбьим мехом прикрыты, и то стоим…