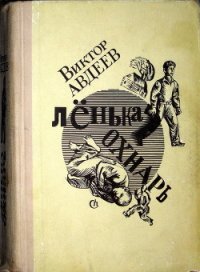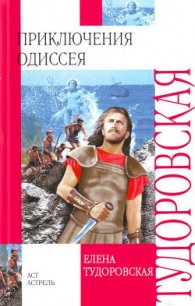Моя одиссея - Авдеев Виктор Федорович (полная версия книги .txt) 📗
Около столовой меня остановила худенькая долгоносая женщина с черными, без блеска волосами, насунутыми, словно чепец, на желтое лицо. Одета она была тоже в желтый с черными полосами джемпер, и это делало ее похожей на большую трудолюбивую пчелу.
— У тебя, хлопчик, зубы болят?
Я скосоротился как мог, невнятно промычал:
— Угу.
— Идем ко мне в амбулаторию, я гляну. Я никак не ожидал найти в колонии амбулаторию и упал духом. Делать ничего не оставалось, я последовал за докторшей, точно карась за удочкой. На втором этаже, в комнате с топчаном, застеленным белой клеенкой, она велела мне сесть на табурет и снять повязку.
— Странно, — сказала докторша, гак глубоко засунув мне в рот маленькое зеркальце на длинной ножке, что я начал давиться. — У тебя, хлопчик, никакого признака флюса. Да не вертись же ты, пожалуйста, и открой рот пошире: не бойся, я совсем не собираюсь к тебе туда залезать.
Я и пытался не вертеться, да не мог. В простенке стоял застекленный шкафчик с щипцами, страшными железками, похожими на кочережки, и я невольно выворачивал на них глаза. Холодная испарина пробрала меня насквозь: неужели станет дергать зуб? Как отвертеться? Сказать: уже, мол, здоров? Вдруг заподозрит: аферист! Начнет розыски и узнает, что меня и звать-то совсем по-другому — Витька Авдеев! Я решил упросить ее не трогать хотя бы передние зубы, потому что без них все меня будут называть щербатым: в конце концов не все ли ей равно, какой рвать?
— Все зубы у тебя целые, — недоуменно продолжала вслух рассуждать докторша. — И даже эмаль крепкая.
Я молчал, как во всех трудных случаях жизни.
— Покажи толком, какой же болит?
Я сунул палец в самый конец рта: может, там не рассмотрит. Докторша хорошенько протерла зеркальце на ножке.
— Коренной? Ничего не пойму: вид у него вполне здоровый. А может, тебя беспокоит всего лишь нерв? Что, зуб дергает?
Я обрадованно кивнул головой: вот-вот, просто дергает. Меня дома всегда называли нервным мальчиком.
— Сделаем тогда вот что, — подумав, сказала докторша. — Я намочу в аспирине ватку и положу тебе на больной зуб, а ты не выплевывай ее, слышишь? Это успокоит боль. На завтра я выпишу тебе бюллетень. Если лекарство не поможет, придется везти тебя в Киев в зубоврачебный кабинет, где есть бормашина. Видишь ли, Боря, сама-то я… не дантист. У меня другая врачебная специальность.
Я поспешил заверить докторшу, что машина не потребуется: зуб у меня никогда не болит дольше одного дня. Выйдя из кабинета, я тут же выплюнул ватку.

Весь следующий день я отлеживался у себя в палате и за это время выяснил, что новочеркасских знакомых в колонии нет. Я с облегчением снял повязку.
Колония имени Фритьофа Нансена была основана в бывшем поместье. Двухэтажный «панский будынок» стоял на опушке сосняка; за дубовыми и осиновыми перелесками тянулись огромные зеленые огороды и лекарственные плантации, на которых росли какие-то непонятные и довольно вонючие цветы. Обслуживали хозяйство сами воспитанники.
После ужина наш воспитатель Михаил Антоныч, прозванный за бородку «Козлом», — человек очень плотный, очень скуластый и всегда холодновато-спокойный — объявил мне: завтра надо выходить на работу. Что мне больше нравится: пасти стадо или мотыжить бураки? Я замялся, мне больше нравилось рисовать и читать книжки. Кроме того, крестьянский труд мне будет, верно, не по плечу. Затяжной тиф, перенесенный в Новочеркасске, и вечное недоедание ослабили мое здоровье; притом я совсем не рос. В бывшей Петровской гимназии я со знанием дела играл на задней парте в перышки, и все считали, что я учусь. Может, и здесь удастся прожить нашармака? Все же из двух зол надо было выбрать меньшее, и я решил, что, пожалуй, легче стеречь с хворостиной стадо, чем махать в поле мотыгой.
— Добре, Борис, — улыбнулся воспитатель в усы. — Значит, завтра получишь пастуший кнут. Работа почетная: колонисты доверяют тебе все стадо. Постарайся, чтобы у нас было побольше молока.
Меня разбудили задолго до восхода солнца. Рот мне раздирала зевота, я наскоро проглотил пшенную кашу и побрел за стадом, опасливо поглядывая на коров. Скотина ревела, мотала хвостами, разбредалась; хоть пасти ее было и почетное дело, но как всю эту тварь заворачивать, когда у нес такие длинные рога, тяжелые копыта? Хорошо, что я был не один: рядом со мной, гулко стреляя пеньковым бичом, шел второй пастух — Митька Турбай — босой, одетый, как и все колонисты, в панаму и полотняные трусы. Над дальней колокольней села Велыка Олександривка полыхал малиновый восход, оттуда неслась петушиная перекличка; по сумрачному, затененному лесу бродил туман, густая тусклая роса осыпала березняк, пониклую траву. Наш выгон находился на круглой лесной поляне, похожей на зеленую тарелку. Мы пустили коров выгуливаться, а сами легли под развесистый дуб.
— Научишь меня пасти стадо? — спросил я своего напарника.
— О! — удивился Митька. — Чего ж тут учить? Да это каждый кобель сумеет.
Глаза у Митьки Турбая были светло-зеленые, как вода, льняные волосы косицами спускались на загорелые уши, а полуоткрытый рот напоминал бублик.
— Ты откуда сам? — продолжал я разговор.
— А из нашего села.
— Давно в колонии?
— Хиба ж я считал? Как батько померли, я и пишов побираться. В Киеве лег ночевать на вокзале, а дядька милиционер дав мени доброго «леща» и привел в приемник. Там спытали: «Хочешь работать?» О! Это ж лучше, чем под окнами просить. Вот и привезли сюда в Хритиофу. А дома у нас, под Белой Церквой, ох и яблоки были: во! Як сахар.
Солнце поднялось над дубом и пекло так, словно ему, кроме Митьки и меня, совершенно нечем было заняться. Справа за орешником виднелась красная железная крыша нашей колонии; слева лежал хуторок — четыре хаты, похожие на белые грибы в коричневых соломенных шляпках.
— Хочешь вышни? — неожиданно спросил меня Митька Турбай.
Я никогда не отказывался ни от чего съестного.
— То ж пригляди стадо, а я пиду просыть. Може, яка тетка дасть трошки.
Я остался один с коровами.
Сильно парило, и казалось, что это не облака застыли в небе, а клубы пуха, летевшего с тополевых сережек. Стадо перестало щипать траву и давно уже стояло неподвижно. «Гдз-з-з, — стеклянно прозвенел в горячем воздухе овод, гдз-з-з». Коровы ожесточенно заработали хвостами, точно задумали выбить из своих боков всю пыль. Вдруг одна пеструха боднула рогами воздух и принялась бегать по выгону. За ней схватились другие коровы; коротко взревел грудастый бугай Махно. Я испуганно вскочил с земли. «Что это с ними? Будто скипидаром смазали». Схватив пеньковый кнут, я развернул его во всю длину и попробовал щелкнуть, как это делал Митька Турбай. Кнут обвил меня, словно змея, и концом пребольно стегнул за ухом. И туг внезапно все стадо кинулось в мою сторону.
«Пропал», — подумал я, бросил кнут и вильнул в дубняк.
Одна из коров, задрав хвост, пронеслась совсем близко от меня. Я подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку толстого дуба и полез на него со веем проворством, на какое был способен.
Отсюда я и увидел подошедшего Турбая: обеими руками он держал панаму, полную черешни.
— О! — удивился он. — Ты чого?
— Физкультурой… хочу заняться, — еще не совсем отдышавшись, ответил я, сидя верхом на толстом суку. — Ты умеешь?
Митька покачал отрицательно головой и с любопытством уставился на меня. Он, наверно, ожидал, что ж сейчас начну показывать разные трюки и акробатические номера. Я спросил как мог равнодушней:
— Что это с коровами? Сбесились?
— Бзык напал, — Митька лениво оглянулся на стадо. — Овода испугались. У скотины от овода червячок под кожей заводится, а тут еще жарынь…
Две коровы и Махно, пиками выставив рога, неслись прямо к нашему дубу. Митька неторопливо разобрал пеньковый кнут и ловко и звонко щелкнул перед самым их носом. Скотина удивленно остановилась, точно увидела стену; мой напарник завернул стадо, отогнал в лес под тень листвы.