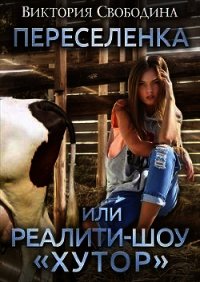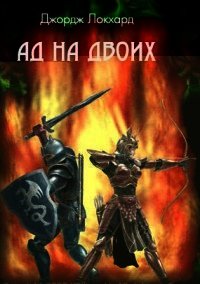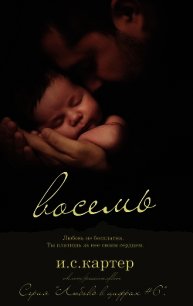Казачья бурса - Шолохов-Синявский Георгий Филиппович (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt) 📗
Матвей Кузьмич совсем не прикладывался к походному стаканчику, вел себя благоразумно и лишь в праздничные дни выпивал четыре-пять бутылок пива, а чтобы веселее стало в доме, купил в магазине купца Пешикова граммофон «Тонарм» с голубой, точно громадный цветок повители, трубой. Из окон рыбинского дома можно было и в будни услышать залихватскую польку-коханочку, гопак или могучий бас Шаляпина. Заводил граммофон сам Матвей Кузьмич и сам же начинал отплясывать в сияющем чистотой, с заново окрашенными полами зале.
Он тащил танцевать с собой и Неонилу Федоровну, но га открещивалась, бормоча: «Изыди, искуситель-анафема, не вводи в грех. Анчутка сидит в твоем ящике, а ты тешишь его!».
Матвей Кузьмич, приземистый, как кубарь, в нанковой синей тужурке, покрытой сальными пятнами и мучной пальцовочной пылью, похохатывал, самодовольно покрякивал, пытался ущипнуть жену. Та крестилась и ахала:
— Сказился, чи шо? Дьявол!
— Эх, Нилушка, да и постная же ты — все молишься да ладаном куришь, а когда же веселиться?
Невольно присутствуя при этом, я часто замечал в его глазах досаду и тоску. Матвей Кузьмич все больше нравился мне, хотя он был и «чужой», и «богатый», не ровня отцу моему, о чем тот однажды, недобро щурясь, сказал мне:
— Ты, сынок, не забывай: это люди не нашего роду, богачи, одним словом. Им наша нужда и печаль-тоска, что снег прошлогодний. За их хлеб-соль потом плачено. В доброту их не верь, пальца в рот не клади — откусят. В случае беды к ним же в батраки придется наниматься.
Слова эти казались мне несправедливыми. Неонилы Федоровны я побаивался, но Матвей Кузьмич был добр со Мной, никогда не обижал, не прикрикивал так, как хозяйка, не следил за мной, когда я тянулся во время обеда или чая за лишним куском хлеба. Да и угрюмая Фая, провожая в школу, старалась сунуть мне в школьную сумку кусок пирога или вареное яичко.
Матвей Кузьмич привлекал меня своим добродушием и веселостью. Не раз он ласково лохматил пальцами мои всегда торчавшие вверх волосы, встречал знакомым возгласом:
— Ну, Ёрка, как дела? Скоро поедем в Адабашево хлеб молотить?
Я отвечал, потупляя глаза:
— Скоро.
Хозяин подкупил меня еще и тем, что, подобно мне, но почему-то прячась от Неонилы Федоровны, ходил в читальню Панютина, допоздна засиживался там в зимние вечера за чтением газет и журналов и приносил оттуда какую-нибудь толстую книгу, чему я втайне завидовал. Мне Артамон Демидович толстых книг еще не давал, и я, обнаружив как-то на столе Матвея Кузьмича роман Луи Жаколио «Грабители морей», скрыто читал его в те часы, когда хозяина не было дома.
За этим занятием он и застал меня однажды, но не рассердился, а удивился:
— Ты что? Читаешь? И уже на двухсотой странице? Гляди-ба, как меня обогнал. Вот молодчина! Ну читай, только про уроки не забывай.
Я почувствовал к нему благодарность…
Но вот благополучие в доме Рыбиных как-то сразу и резко нарушилось. Словно туча надвинулась и заслонила солнце.
Это была особенно нудная, тоскливая, слякотная осень. Я уже учился во втором классе. Матвей Кузьмич, по обыкновению, собирал с хуторских воротил долги за молотьбу. Однажды утром я услыхал, как он раздраженно жаловался Неониле Федоровне:
— Проклятый Маркиашка! Хожу-хожу, клянчу-клянчу, чтобы отдал долг, а он все откладывает, водит за нос: приди завтра да послезавтра. Ни денег, ни зерна не отдает. Докуда же так будет? Живодер! Живоглот! Весь хутор держит в своих когтях. Хохол, хам, а казаков давит, разжирел на чужой крови, кровопиец! И атаман и заседатель в его руках — всех купил, всем заправляет.
Такие слова были неожиданны для меня: оказалось, кто-то стоял выше Рыбина, прижимал, держал в руках не только иногородних, но и его, зажиточного казака. Мне были безразличны жалобы хозяина, я вскоре забыл о них, но дурная слава о Маркиане Бондареве издавна вросла в быт хутора, как будто сам воздух был напитан ею. «Маркиан», «Маркиашка», «работать у Маркиана» — так и носилось по хутору. Даже мальчишки-школьники, по-видимому повторяя разговоры отцов и матерей, произносили его имя со страхом и злой ненавистью. Девчата-поденщицы пели в степи такую же злую, ехидную песенку:
Идя в школу, я невольно косил глаза на огромные каменные, под железной крышей, сараи с множеством быков и лошадей, на амбары с зерном и сеном. «Маркианов двор», «Маркиановы быки», «Маркиановы кони» — то и дело приходилось слышать всюду: и в степи, и в придонских лугах за много верст от хутора…
У меня пробуждалось любопытство к этому человеку, как в свое время к старику Адабашеву. Я уже рисовал себе великана с длинными, загребущими руками. Как идол, как страшный волшебник, сидел он на своем богатстве и готов был проглотить всякого, кто близко подходил к его владениям. И я обходил его просторный двор, огражденный высокой каменной стеной… И каково же было мое удивление, когда однажды в церкви я увидел прославленного на весь юрт воротилу. Это был довольно благообразный, моложавый, розовощекий мужчина с красиво вьющейся русой бородкой и елейно-кротким взглядом бледно-голубых, совсем не страшных глаз.
Он стоял неподалеку от меня, одетый в длинный черный сюртук и лаковые сапоги, и благочестиво клал поклоны, медленно, с достоинством, осенял себя крестным знамением, потом вставил в подсвечник толстую, обвитую золоти фольгой свечу и, еще раз перекрестившись, смиренно поджал губы.
Я с любопытством смотрел на Маркиана, вспоминая рассказы о его жадности и жестокости. Это он кормил батраков гнилым пшеном и тухлой чехонью, арендовал казачьи паи, спекулировал землей, не платил батракам, а потом, когда те, плача, приходили к нему и просили отдать сработанное, выталкивал их в шею или травил собаками. Это перед ним, ничтожным «хохлом», атаман и заседатель снимали шапки, считали за честь, когда он приглашал их на майское богомолье. Сначала у Белой балки служили молебен с полным составом причта, затем расстилались прямо на шелковистой траве брезенты, выставлялись всевозможные яства и сантуринское вино, и пир вставал горой. Здесь ело и кутило все избранное общество хутора — лавочники, прасолы, наиболее крупные земледельцы и арендаторы, а поодаль угощалась чернь — обыкновенные казаки и иногородние. У них, кроме сухой тарани да жидкого пива, ничего не было. Но перепивались все вдрызг — «монополька» ведь ехала следом.
То-то было раздолье! Попы и певчие в пьяном угаре теряли в степи иконы и хоругви, хуторские лавочники, хлеборобы-казаки и сам атаман лобызались с «жуликом Маркиашкой» так, как не лобызались с близкими родичами…
Доверчивых, шедших в петлю к Маркиану казаков-тружеников, в хуторе было достаточно, но удивительнее всего было то, что в их число попал и зажиточный казак Матвей Кузьмич Рыбин. В ту осень почти совсем иссяк завоз на вальцовку и дела Рыбина окончательно пошатнулись. А тут нагрянула беда: пробудился старый недуг…
Изгнание беса
Вальцовка Рыбина уже месяц не работала, железная труба не коптила небо, у завозни густела необычная тишина. Затихла, улетела куда-то, не стала веселить хозяина игриво-резвая полька-коханочка. В дом Рыбина непрошено, как нищий в праздничный день, постучался призрак разорения.
В сумрачный ноябрьский день семья готовилась обедать. Неонила Федоровна, как всегда, резала черствый, пахнущий хмелинами хлеб (экономили топливо, поэтому хлебы пекли раз в месяц по двадцать-тридцать буханок в одну закладку — засыпали сразу в квашню по два-три пуда муки). Фая расставляла тарелки. И в это время в курень ввалился Матвей Кузьмич.
Бледность проступала на его лице сквозь темную кожу, голова странно тряслась, нижняя толстая губа отвисла. Он сорвал с взлохмаченной, уже начавшей седеть, курчавой головы шапку, остервенело швырнул ее в угол, не раздевшись, опустился на табурет и вдруг захлюпал, закрыв глаза согнутой в локте рукой.