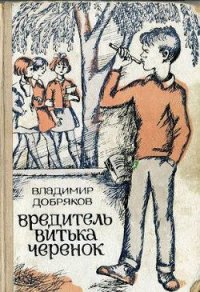Рыжий - Боровский Федор Моисеевич (читать книги полные .txt) 📗
— Ну-ка, иди сюда, — сказал отец.
Я поднялся на террасу. Рядом с ним стоял брат, позади — мама. У дверей квартир стояли все жильцы нашего дома. Даже дед Ларион стоял, даже Витькины сестры жались к материной юбке на площадке.
— Что случилось?
— А я знаю? — угрюмо пробурчал я.
Отец не любил такого тона. Он вполне мог взорваться, но выше сил моих было думать о правилах поведения, а тем более — следовать им. Однако отец сдержался.
— Не «а я знаю», а «я не знаю», — только резко поправил он.
— Я не знаю.
Дзагли подбежал к нам и звонко гавкнул. Я вздрогнул.
— Ты же там был, — сказал отец.
— Не был.
Дзагли ткнулся мне в ноги холодным носом, фыркнул и застучал коготками по террасе — домой. Я не оглянулся, хотя мне вдруг отчего-то очень захотелось на него посмотреть.
— Но ты же стоял у проволоки?
— Не был.
— А что ты делал у ограды?
— Не был.
Режьте меня — не скажу. Никогда и никому не скажу. Не был, и все, пусть что хотят делают.
— Он на двор ходил, — вмешался брат.
— Помолчи. Тебя не спрашивают, — резко одернул его отец, но я уже взбодрился и понял, что мне надо говорить.
Спасибо тебе, братишка. Все малыши взялись меня сегодня выручать. Рыжий, брат. Проклятый день. В другой раз из чистого самолюбия я не принял бы их помощи, но сейчас меня давило чувство вины, нехорошо, неспокойно было на душе, и собака выла на горе не переставая.
— Наверное, она на Рыжего напала, — все так же угрюмо, не поднимая глаз, сказал я.
— Ну да, — насмешливо отозвался отец. — Стоило тебе выйти, как она сразу же и напала. А почему раньше никогда не нападала?
— Не знаю, — стоял я на своем. — Может, она меня почуяла и выскочила.
— Но раньше-то никогда не выскакивала, так?
— Не знаю. Может, Зураб Константинович забыл калитку закрыть.
— Ладно, — сказал отец. — Идите спать, завтра разберемся.
Он не тронул меня, хотя по всем правилам если, так должен был всыпать без сожаления. Впрочем, его не разберешь: то вскипит по пустякам, то в серьезном деле — ноль внимания.
Мы с братом ушли, взрослые остались на улице.
— Что было-то? — с горячим любопытством прицепился ко мне брат, едва мы оказались одни. — Залез, да?
— Ничего не было, — зло оборвал я его. — Иди спать.
— Да-а… — обиженно протянул он. — Ничего… Знаю я тебя.
— Иди спать, а то…
Он отпрыгнул и обиженно засопел. Он был вправе требовать от меня признания, но я не мог. Не мог, и все.
Собака выла всю ночь. И все утро. Воет, воет, потом завизжит, заскулит, затявкает — жалко, болезненно. И опять воет. Я плохо спал. Мучили кошмары. Я просыпался в поту на горячей постели, смотрел в душную темноту. А собака все выла и выла, тоскливо, страшно. И все не спали: мама, отец, брат, соседи.
— Что ты с ней сделал? — раздраженно спрашивали меня наутро. — Как тебе не стыдно! Сердца у тебя нет. Как тебе не стыдно!
— Ничего, — отбивался я. Я тоже был раздражен и угрюм, сердце в груди словно гиря. — Ничего я ей не делал, она сама на Рыжего напала.
Ну пусть не она на Рыжего, пусть Рыжий на нее, так и что? А если бы Рыжий не напал, если бы не встал за меня, рискуя жизнью? Как бы они сейчас запели? Только отец, брат и Витька не попрекали меня, только они знали меня, оказывается, настолько, что поняли — не так здесь все просто. Даже мама. Эх, мама…
— Ничего, — угрюмо твердил я. — Ничего я ей не делал.
Почему они не возмущались, когда Рыжий растерзал Бродягу? Потому что Бродяга был весь в парше и колтунах? Потому что за него некому было заступиться и вычесать репьи из его хвоста? Или потому что, битый, травленый, стреляный, он без лишних эмоций перенес трепку и не пришел жаловаться под ваши окна, как этот холеный зверюга наверху, рехнувшийся после первой же взбучки? Кто из вас знает, каково мне было, когда он брызгал слюной на мои беззащитные руки там, в саду, среди ночи? Да он эту несчастную руку за один раз перекусить может, такие у него клыки. Если бы не Рыжий… Эх вы…
Но все равно собаку было жалко. Сердце каменело от ее воя. Ну, погоди, Зураб Константинович, ты еще пожалеешь, что оставил открытой калитку в сад.
Я даже в футбол играть не мог. Стоял столбом, и меня выгнали. Я сидел в ауте и смотрел, как ребята с криком гоняют мяч, вздымая пыль, а мне самому и не хотелось. И это в последние перед школой дни. Потом уже не погоняешь. Последний год учиться нужно будет по-настоящему: так решено. Пусть никто, кроме Витьки, этого не знает, а все равно — так решено.
Я сидел и думал, когда лучше всего сказать ребятам про сад, сейчас или немного погодя, сидел и думал, а время шло, и солнце уже покатилось с зенита, как вдруг с горы глухо ударил выстрел и вой оборвался.
— А-ах, — прокатилось по двору. Дружный всхлип, дружный вздох. Или мне показалось?
Ребята остановились. Полторы дюжины лиц повернулись в сторону пакгауза и нашего дома, загораживавших гору. Оттуда доносился вой, оттуда же прилетел и выстрел. Я встал. Что-то ноги меня плохо держали, затекли, что ли? Нехорошо было у меня на душе, ой нехорошо.
Наверное, я покачнулся. Ребята уставились на меня — пыльные, потные лица, блестящие зубы и глаза, глаза… Сколько же у них глаз?
— Что там такое, эй? — крикнул мне Пудель.
Я не ответил. Я прислушивался и, хотя на горе было тихо, чего-то ждал. Все утро ждал, собака своим воем, должно быть, настроила.
— Айда посмотрим? — предложил Пудель.
— Айда!
Они побежали к воротам гурьбой, вприпрыжку; кто-то засвистел разбойно, кто-то на бегу ногой подбросил в воздух камушек:
— На кого бог пошлет!
Все бросились врассыпную — ни на кого не послал.
Я остался стоять. Брат оглянулся от ворот и тоже остановился. Остальные выбежали на улицу, топот, свист, лихие, веселые выкрики пронеслись по переулку за забором и стихли где-то на горе. Чего там было смотреть? Убитую собаку не видели? Надо было идти домой, а я все медлил, стоял, прислушивался. Брат приплелся от ворот, встал рядом и уныло уставился на меня. Чего это они так все смотрят? Неужели у меня вид такой, что я на всех уныние и скуку нагоняю?
— Пошли домой? — предложил я.
— Пошли, — согласился брат.
Мы поплелись домой. Жарко было. Яркий летний день, большой двор широк, пустынен, пылен; в углу у ворот желтеет каменная уборная гарнизонного вида, рядом помойка, серый забор, серые облупленные дома; ни дерева, ни кустика, ни травинки. Вся зелень, все сады — на горе, но их отсюда не видно. Только у начала тропы, когда мы завернули за угол пакгауза, нас встретила зелень, лопухи и крапива под белой просторной стеной. Увидя лопухи, я остановился. Брат остановился тоже, уставился на меня и молчал. Какая-то смутная появилась у меня мысль, что-то такое связанное с лопухами, но я никак не мог сообразить, что же именно. Мне вдруг очень захотелось, чтобы лопухи раздвинулись, зашевелились и из них вышел бы Рыжий. С крысой или без крысы — все равно. Впрочем, какие сейчас среди дня крысы. Прошли те времена, когда они спокойно разгуливали по двору днем. Рыжий и Дзагли научили их уму-разуму. Да что крысы! Пусть бы просто шел впереди меня, изгибая свое мощное тело и равнодушно глядя перед собой зелеными глазами. Ну да! Это та самая мысль. Если бы Рыжий был со мной, я бы, наверное, успокоился.
— Рыжий, Рыжий…
Он не показывался. Я вздохнул и пошел дальше. Брат двинулся за мною. Мы прошли шага три, не больше, и тут на горе ударил второй выстрел. Меня качнуло, и, чтобы не упасть, я вцепился брату в плечо.
— Ты что, что? — вскрикнул он и забился, задергался, вырываясь, — наверное, я сделал ему больно.
Во рту у меня пересохло. Я хотел что-нибудь сказать, крикнуть, но не мог и только сильнее и сильнее стискивал тонкое братово плечо. Он тоже молчал и медленно бледнел. А я? И я, наверное, потому что лоб у меня похолодел и на затылке стянуло кожу. Мы смотрели друг на друга, бледнели и молчали. Потом брат рванулся:
— Пошли.