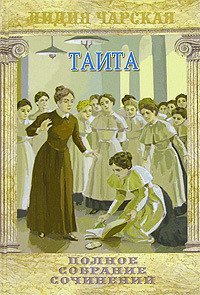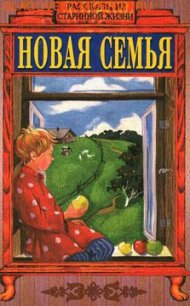Люда Влассовская - Чарская Лидия Алексеевна (книги онлайн полностью бесплатно .txt) 📗
Минут пять длилось совещание. Потом Маруся первая выбежала из-за доски и, сверкая заискрившимися глазами, вскочила на кафедру.
— Mesdames, — звонко прокричала она, — за подлость надо платить подлостью. Око за око, зуб за зуб. Великолепный закон, и я его первая последовательница. Я придумала такую штучку, что противная Гадюка никогда ее не забудет!
— Маруська, сумасшедшая, пожалей ты себя, — вмешалась я, — ведь ты опять нарвешься на ноль за поведение или еще на что-нибудь похуже…
— Не беспокойся, Люда! Я справедлива и хочу наказать виновного… Но только мое наказание будет очень строго, а в глазах начальства оно покажется неслыханной дерзостью, и потому, mesdam'очки, заговорщиков не выдавать! — звонко крикнула она девочкам, тесно обступившим кафедру.
— Не выдадим, не выдадим, не беспокойся, душка! — послышалось отовсюду.
— Даже и тогда не выдавать, — продолжала Маруся, — если накажут весь класс без рождественских каникул…
Это было самое строгое наказание в институте.
— Даже и тогда! — снова подтвердили дружные голоса.
— Все согласны?
— Все, все, все согласны! — хором отвечал класс.
Поведение Гадюки слишком возмутило и ленивых, и прилежных, и «парфеток», и «мовешек», чтобы они могли равнодушно отнестись к этому происшествию.
— Я не согласна! — послышался вдруг звонкий голос с последней скамейки, где сидела за книгою Нора Трахтенберг, не принимавшая никакого участия в наших волнениях. — Я не согласна! — повторила она еще раз и, спокойно захлопнув книгу, вышла на середину класса.
— Mesdam'очки, слышите? — взвизгнула Маруся, разом теряя всякое самообладание. — Скандинавская дева не согласна и еще, пожалуй, выдаст нас.
— Если это будет необходимо, очень может быть, — еще спокойнее отвечала Нора.
— То есть как это! По какому праву? Ты предпочитаешь идти против класса и быть на стороне Гадюки?
— Я хочу быть справедлива, и больше ничего, — со своим иностранным акцентом произнесла Нора. — Дергунова должна была выучить урок. Нет правила останавливать учителя у класса и просить его не вызывать…
— Правила! Правила! Правила! — передразнила вся красная от злости Маруся. — Ты, кажется, вся соткана из твоих глупых правил, противная ледяшка!
— Не злись, это вовсе не убедительно, — произнесла Нора спокойно, — а только доказывает дурной характер и воспитание… Mesdames, — обратилась она ко всему классу, — делайте что хотите, но помните, что я не хочу страдать из-за ваших глупых выходок и быть наказанной заодно с вами как маленькая «седьмушка». Предупреждаю, mesdames, от меня не ждите ни укрывательства, ни лжи перед начальством!
И договорив последнюю фразу, Нора выделилась из толпы и спокойно направилась к своему месту, где снова уселась за прерванное чтение.
— Mesdam'очки, она нарочно! Не верьте ей! — отчаянно зашептала Миля Корбина, взволнованная и испуганная за своего кумира. — Она это говорит так, чтобы остановить вас! Она не выдаст! Ей-Богу же, не выдаст!
И Миля для подтверждения своих слов усиленно закрестилась на висевший в углу класса образ Богородицы.
— Пусть попробует только! — недобро усмехнулась Маруся и бросила в сторону склонившейся над книгой Норы взгляд, исполненный ненависти, злобы и вражды.
Покончив с заговором, девочки успокоились немного. Казнь Гадюки была решена.
ГЛАВА XII
Роковые булавки. Отверженная. Суд и расправа
Это случилось ровно через три дня после «заговора».
Историк Козелло — смуглый, красивый брюнет небольшого роста, которого я обожала взапуски с Кирой и Милкой, — окончил рассказ о распадении римского государства, четко расписался в классном журнале и, кивнув нам своей характерной крупной головою, не торопясь вышел из класса.
Fraulein Hening, дежурившая в этот день, собственноручно открыла форточку для вентиляции воздуха и заторопила нас выйти в коридор, как это требовалось после каждого урока.
Маруся была особенно возбуждена в этот день. Она поминутно смеялась без причины, заглядывала мне в глаза и то напевала, то декламировала отрывки своих стихов. Ровно за минуту до начала урока, она кликнула Киру и Белку, и они втроем незаметно пробрались в класс и присели внизу кафедры, так что их не было видно. Я не подозревала, что они делали там, но когда мы все вошли в класс после коротенькой рекреации, три девочки как ни в чем не бывало сидели на своих местах и усердно повторяли уроки.
Тотчас же по первому звуку колокольчика в класс вошел Терпимов.
Я не видела его после случая с Кирой, и теперь он показался мне еще более противным и отталкивающим, чем когда-либо. Мне показалось даже, что при входе в класс он как-то особенно торжествующе взглянул на бедного Персика, присмиревшего на своем месте. Я взглянула на Марусю. Она вся была олицетворенное ожидание. Лицо ее побледнело… Губы дрожали, а искрящиеся, обыкновенно прекрасные, теперь злобные глаза так и впились в ненавистное лицо учителя.
— Маруся! Маруся! — прошептала я с отчаянием. — Что ты наделала?.. Я вижу по тебе, что ты…
Я не докончила…
Легкий крик, вылетевший из груди Терпимова, прервал меня… Учитель держался одною рукою за кафедру, другая была вся в крови, и он быстро-быстро махал ею по воздуху. Лицо его, искаженное страданием, бессмысленно смотрело на нас.
— Это ничего… это отлично… — шептала Маруся, охваченная припадком какой-то бешеной радости, — так ему и надо… противный, скверный Гадюка… Око за око, зуб за зуб! Да… да… так и надо!
— Маруся, — прошептала я, замирая от страха, — что ты наделала?..
— Не я одна… успокойся, Людочка! не я… а все мы, слышишь, все… мы воткнули под сиденье стула Гадюки три французских булавки.
— Боже мой! Что теперь будет, — пронеслось вихрем в моей голове, — что-то будет теперь, Господи?
Терпимов все еще стоял на кафедре, тряся по воздуху рукою, с которой медленно скатывались капля за каплей тоненькие струйки крови. Его глаза смотрели на нас с гневом, смешанным со стыдом. Это длилось с минуту. Потом он словно очнулся от сна, будто внезапно поняв проделку девочек. Вынув здоровой рукой платок из кармана и зажав им больную руку, он обвел весь класс долгим вопрошающим взглядом и, поспешно сойдя с кафедры, не говоря ни слова, скрылся за дверью.
— Ну, теперь будет потеха! — прошептала испуганная насмерть всем происшедшим Миля Корбина.
Fraulein Hening тоже сразу поняла суть дела. Она вошла на кафедру, наклонилась к стулу и через две секунды три большие, длинные с бисерными головками булавки лежали подле чернильницы на столе.
Fraulein Hening была взволнована не менее нас самих.
— Дети, — начала она по-русски (в трудные минуты жизни добрая Кис-Кис всегда выражалась по-русски), — мне очень, очень грустно, что я ошиблась в вас… Я считала до сих пор моих девочек кроткими, сердечными созданиями, а теперь вижу, что у вас мохнатые, зачерствелые, звериные сердца. Можно простить шалость, непослушание, но злую проделку, умышленно нанесенный вред другому я не прошу никогда!.. никогда!..
Едва только Fraulein успела сказать это, как в класс вошла начальница в сопровождении инспектрисы, инспектора классов — толстенького, добродушного человечка и злополучного Терпимова с обернутою окровавленным платком рукою.
— Люди вы или звери? — вместо всякого предисловия произнесла Maman, и голова ее в белой наколке затряслась от волнения и гнева. — Барышни вы или уличные мальчишки? Это уже не шалость, не детская выходка! Это злой, отвратительный поступок, которому нет названия, нет прощения! Мне стыдно за вас, стыдно, что под моим начальством находятся девочки со зверскими наклонностями, с полным отсутствием сердечности и любви к ближнему! Я должна извиниться перед вашим учителем за невозможный, отвратительный поступок с ним — и кого же? — вверенных моему попечению взрослых девиц! За что вы так гадко поступили с monsieur Терпимовым? Что он вам сделал? Ну! Отвечайте же, что же вы молчите?