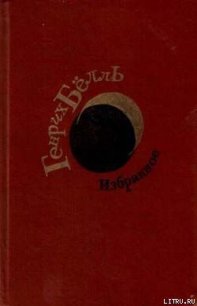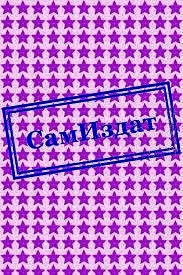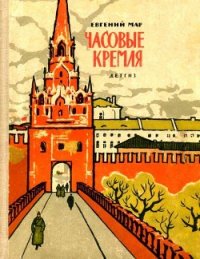Самая высокая лестница (сборник) - Яковлев Юрий Яковлевич (книги без сокращений TXT) 📗
— Эй, слезайте!
Мы смотрели на него птичьими глазами и молчали.
— Эй, вы! Слезайте, вам говорят! — кричал управдом. — Пилить будем.
Никто не шевельнулся.
— Прекратите хулиганство! Щербаков, начинай пилить!
— Прямо с живыми детьми? — спросил дворник, делая ударение на первый слог в слове «детьми».
— Валяй, валяй, они попрыгают.
— А как нет? — Дворник уставился на Макарёнка. — Я на душу преступления не возьму.
Макарёнок почесал затылок и велел Щербакову идти за родителями.
Он совершил ошибку, этот самоуверенный управдом. Он не подумал, что наши родители когда-то тоже сидели на деревьях, любили старые тополя. В самые суровые годы блокады, когда каждое полено было жизнью, у наших родителей не поднялась рука спилить деревья. Терпели. А у Макарёнка просто получается: поставил печать — и пили.
— Пусть стоят, — сказал Лялькин отец, — мы с этими деревьями выросли.
— Грязь разводить хотите? — в упор спросил Макарёнок.
— Это что вы называете грязью? Почки? Первые листья? Прохладу в жаркий день? Запах прелой листвы? Веточки в инее?
Макарёнок смотрел на Лялькиного отца выкатив глаза, словно тот говорил не по-русски.
В это время в разговор вмешался наш старый управдом, Сидорин. Белый, слабенький старичок.
— Хорошо, когда дети сидят на деревьях, — сказал он. — Может быть, они воображают себя птицами. А человек хоть ненадолго должен почувствовать себя птицей… Я помню, как дети сидели на деревьях, когда прорвали блокаду и был салют. И разноцветные ракеты летали рядом с ними. Как красиво было!
— Мы другие деревья посадим, — не отступал Макарёнок.
— Другие долго расти будут. Жизни вашей не хватит. Я эти деревья помню ещё молодыми…
Словом, ничего у этого Макарёнка не вышло с нашими тополями.
А вскоре наша Лялька попала под машину. Такое произошло несчастье. Светленький Воля видел, как она лежала на асфальте и как белые халаты вились над ней, словно хотели защитить её от чего-то. Она была жива. Лётчик, когда узнал, кинулся в больницу. Он оказался дома. А мать была где-то в поездке.
Лётчик вернулся из больницы под вечер. Мы видели, как он шёл по двору. Плечи у него были опущены, лицо серое, глаза погасли. Словно он поднял свою крылатую машину высоко в небо и что-то там разладилось, не сработало, загорелось. И он катапультировался, в последнюю минуту оторвал машину от сердца.
Мы смотрели на него и боялись подойти. Боялись спросить, как Лялька. Мы шли за ним, в надежде, что он сам скажет. Но лётчик так ничего и не сказал. Только оглянулся, внимательно посмотрел на нас. И от этого взгляда нам стало не по себе.
На другой день светленький Воля сказал:
— Ляльке из двадцать шестой сделали операцию.
— В больнице? — спросил кто-то.
— Ага, — ответил Воля. Он всё всегда знал.
Ребята как-то быстро отвлеклись от этой новости. Просто не знали, что делать, как себя вести в подобных случаях. Занимались своими делами. Потом вдруг выяснилось, что Лялькин сук пустой. Хороший, удобный сук. На нём можно просидеть хоть целый час. Но никому не пришло в голову занять его.
Я стал допытываться у светленького Воли:
— Когда она вернётся?
Воля пожал плечами и сказал:
— Она теперь будет хромать.
— Хромать? Как же она полезет на дерево?! — закричал я на Волю, словно он во всём был виноват.
— Почём я знаю, — заморгал глазами светленький Воля. — Может быть, не полезет никогда.
— Никогда?
Мне стало страшно от этого слова. От него веяло холодом и темнотой. Какое-то безжизненное слово. Может быть, оно касается и меня? Чтоб испытать себя, я полез на дерево. И ребята, не сговариваясь, полезли тоже. Мы лезли и мысленно тянули за собой Ляльку, но она выскальзывала из наших рук, оставалась на земле, словно, как большинство девчонок, никогда не лазала по деревьям.
Мы расселись на ветвях и смотрели на улицу. Проползла поливальная машина. Проехал автобус с иностранцами, похожими на цирковых артистов. Провели детский садик в белых панамках… Мой отец рассказывал, что с этих тополей он видел, как над городом летел дирижабль «Граф Цеппелин». Большой и серебристый. Его было долго видно, не то что сверхзвуковые самолёты. А тётка Анисья запрещает мне лазать на деревья. Даже когда салют. Но я всё равно лезу. Ляльке никто не запрещал, почему же её нет на нашем дереве? Может быть, в целом мире не стало Ляльки?
Мы забрались ещё выше, где ветки тоньше и надо держаться крепче. А когда посмотрели вниз, то увидели лётчика. Он стоял на земле и смотрел на нас задрав голову, как смотрят на самолёты и дирижабли. Может быть, он собирается залезть на дерево, чтобы занять Лялькин сук? Но лётчик постоял-постоял и пошёл. Он шагал по двору, и по его походке мы почувствовали, что он спешит на аэродром, где его ждёт новая, необлётанная машина. Он возьмёт с собой любимую дочь Ляльку, потому что в полёте хромота не помеха, и поднимет её на такую высоту, до какой не дорастало ни одно дерево.
И, провожая глазами самолёты, мы всё старались отгадать: в каком из них летит Лялька со своим отцом, защищающим наши деревья.
С годами мы стали утрачивать интерес к деревьям. Лазали всё реже. Потом вообще перестали. Вместо нас полезли другие. Малышня. С ободранными коленками, с удивлёнными круглыми глазами. Их потянул на деревья зов предков — наш зов, — и они полезли, с самого начала осваивая эту нелёгкую науку.
И когда теперь я вижу ребят на деревьях, я радуюсь.
Все места заняты, и Лялькино тоже. Значит, жизнь движется, как надо! Все системы работают нормально. Самочувствие отличное. И на деревьях зреют новые плоды.
Морской конёк
В пасмурный прохладный день по серому заливу ползли ленивые волны с белыми мыльными гребешками. У берега они растекались, издавая сухой шорох, словно где-то неподалёку ворошили граблями сено. Чайки кружились над мелководьем, широко расставив белые крахмальные крылья.
По безлюдному пляжу бегала стайка девочек-подростков. Они прыгали, махали руками, до щиколоток забегали в залив, оставляя на воде бурлящую дорожку, — вспугнутые цапли, готовые вот-вот взлететь. Вода в заливе была холодная, купанье отменялось, девочки не знали, куда себя деть, вот и носились по пляжу дикой стайкой.
Они были в разноцветных купальниках, у каждой за спиной «конский хвостик». Одна из девочек надела синий мотоциклетный шлем, который прыгал на фоне волн, как огромный поплавок. Девочек было четыре, но с ними увязался мальчишка. Девочки как бы не замечали его, но втайне радовались, что он был с ними, и если начинали прыгать, то каждая старалась прыгнуть выше остальных, чтобы привлечь его внимание.
— Виль! Виль! — кричали девочки гортанными, птичьими голосами. Этот клич был именем мальчика — его звали Виль.
Подхваченное ветром пёрышко чайки закувыркалось, покатилось перекати-полем по пляжу, и стайка кинулась вдогонку, замахала крыльями, закричала:
— Виль! Виль! Виль!
Они остановились, как бы спустились с неба, у лодочки с парусом. Лодочка была ненастоящая — фанерная, и парус был ненастоящий — из простыни, он и хлопал по ветру как простыня, повешенная для сушки. Лодочка никогда не плавала по заливу, она служила фоном для желающих сфотографироваться. Потом можно будет рассказать, что ты ходил на ней под парусом. Рядом вверх колёсами лежала тележка, на которой фотограф привозил и увозил свою ненастоящую лодочку. Фотограф был тучным. Остатки волос расположились на его голове рыжим венком, словно это были не волосы, а увядшие лавры, ненастоящие, как и лодочка.
Девочки прыгали около лодочки, перебрасывались словечками:
— Можно прокатиться? — озорно спросила высокая, в оранжевом купальнике.
— Давайте лучше сниматься, — предложила подружка в синем шлеме.
— Давайте! Давайте! Виль! Виль! Виль.
Они галдели, фантазировали, вели себя подчёркнуто шумно и дерзко, при этом ни на минуту не забывали, что с ними мальчик. Девочки бросали в его сторону быстрые взгляды, каждая как бы задавала ему тайный вопрос: как я тебе нравлюсь? При этом все знали, что нравится ему одна — Инга. И в своём неосознанном соперничестве подружки мечтали победить Ингу. Инга раздражала их, и это раздражение накапливалось, накалялось и, наконец, вылилось наружу. Черноволосая девочка в зелёном купальнике вдруг сказала: