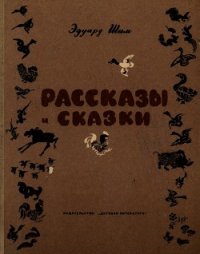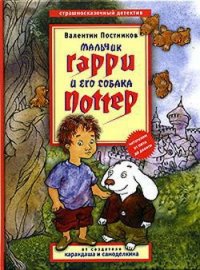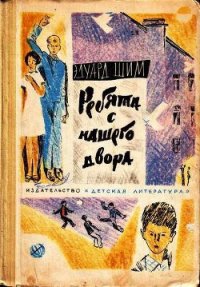Мальчик в лесу - Шим Эдуард Юрьевич (книга жизни .TXT) 📗
— Хороший.
— Он тебе нравится?
— Нравится.
— А чем нравится?
— Не знаю.
— Ну все ж таки? Что в нем особенного?
— Дак он мужчина, — поразмыслив, сообщил Тимофей. — А остальные — все училки, Международный женский день.
Вдалеке, у фиолетовых лесов, медлительно и мягко зарокотало, будто картошку сыпали в гулкий фанерный ящик. Очевидно, гигантские тракторы приближалась, и сделался слышным их нескончаемый рев. Откликнулись болотные пространства, дрогнул воздух, и что-то невидимое прокатилось над топями, холмами и зарослями багульника. Встрепенулись вороны на кривых сосенках, закричали насморочными голосами.
— Гром гремит! — Тимофей поднял палец. — Вот он, Илья-пророк-то. Шурует на ракете.
— Надо же, — отозвался спереди Федор Федорович. — Подгадал дождь на праздничек, ах незадача!
Старик с расстегнутым портфелем возразил:
— Как раз удачно. Работать нельзя, пусть народ погуляет в ненастный день.
— Гляжу, добрый ты стал… кабы знать, кто этот чертов календарь составляет, — отступного бы не пожалел! Только чтоб не в моих деревнях гуляли.
— Традиция… — вздохнул старик с портфелем.
— Безобразие это, — сказал председатель. — На троицу сговорили меня новый праздник устроить: «Встреча колхозного лета». Чтоб не с пережитками, значит, а по-современному и культурно. Хорошо, стали готовиться. Оркестр я привез, настоящий оркестр из пожарного депо, — мастера, понимаешь, на всех похоронах в районе играют… Договор с ними заключил: дудеть до победы. А весь мой народ взял да и попер в деревню Маслюки, потому что троицу, видите ли, назначено в Маслюках справлять. А кто назначил, почему назначил — не добьешься!
Наверно, председателя разбередили воспоминания о неудавшемся празднике. Федор Федорович произносил свой монолог, все более кипятясь; в патетических местах он невольно нажимал на педаль газа, и пропыленный «козел» взревывал, как бы поддерживая хозяйский гнев.
— Ты руководитель. Должен учитывать обстановку! — назидательно произнес старик с портфелем.
— Курс, что ли, менять?
— И курс менять. Гибкость нужна руководителю, трезвость нужна, постоянное… Обожди-ка. Что это впереди?
— Комбайн, — сказал председатель неохотно.
— Твой? Ты что же технику гробишь? Бросил в болоте.
— Не бросил. Позавчера из Жихарева гнали, да паренек неопытный, завязил.
— Ай-яй! — Старик с портфелем нацелился своими очками на облупленный, голубой в крапинку агрегат, преградивший дорогу. — Позавчера, говоришь?
— Угу.
— Н-да… Он тут месяц валяется. Его птицы обсидели.
— А ты разбираешься! (Председательский «козел» опять начал взревывать.) Разбираешься в птичьем добре. Отличаешь лесное от деревенского!
— Меня не проведешь! Нет, брат! Очки не втирай!
— Ты кто? — сказал председатель. — Уполномоченный? Твое дело теперь продавцами командовать.
— А ты не искажай факты! Не обманывай!
— Была нужда.
— По привычке небось. Все вы, председатели, одинаковы.
— Иди ты… — сказал сквозь зубы Федор Федорович, а остальных слов Вера Ивановна, к счастью, не расслышала, потому что уж очень нервно рявкнул председательский «козел».
С трудом объехали комбайн, а когда перевалились обратно в мягкую колею, Вера Ивановна заметила на дороге людей. Далеко впереди, меж причудливо искривленных сосенок, сияли, светились яркие платья и косынки, особенно праздничные на фоне темной дороги и кофейно-коричневой воды. Все это напоминало палехскую миниатюру с папиросной коробки «Баян».
— Вот, — сказал председатель, наддавая «козлу» скорость. — Вот кому почитай мораль. Плывут, родимые. И оркестра им не надо.
— Жихаревские, что ли?
— Не… — Тимофей присмотрелся. — Наши. Сестрица позади волочится. Дядь Федь, скажи ей пару ласковых. У-у, тунеядка!
Подъехали поближе, и Вера Ивановна различила женские, вернее, девические фигурки с неестественно белыми длинными ногами; это девушки, оказывается, поддернули свои платья, подоткнули подолы, чтоб не запачкать в грязи. Шли босиком, а туфли кто в руках нес, кто на палочке за плечами.
— Школьницы… — протянул Федор Федорович, словно бы сожалея.
— Дядь Федь! Скажи ей!
— Эти мне неподотчетные. Пускай их педагоги ругают.
— Тормозни, я тогда сам! — Тимофей свесился через борт и заорал: — Панька!.. Панька, стой!
Девушки обернулись, отбежали с дороги, начали спешно одергивать платья. А та, которая шла последней, приложила ко лбу ладонь козыречком, разглядывая едущих в машине. Она была совсем юная, лет семнадцати, и женское еще только угадывалось в ней, только намечалось, разве что ноги были коренастые, с широкими, развитыми ступнями, уже в буграх и венах. Красовалось на ней модное клетчатое платьице в талию, посверкивали часики на загорелой руке, и прическа была модная, вытянутым куполом, как восточный минарет. Под этим куполом, тщательно состроенным, прикрытым и увязанным косыночкой, полудетское лицо казалось совсем маленьким, размером с яблочко. И лишь глаза, такие же светлые и прозрачные, как у Тимофея, дерзко смотрели и независимо.
— Нате вам! — ядовито произнес Тимофей, когда машина остановилась напротив сестры. — Любуйтесь. Хороша я, хороша, вся в кредит одета.
— Тебе чего надо? — зардевшись, спросила Панька. Наверное, ничего приятного не ожидала она от брата и заранее стеснялась пассажиров, смотревших из машины, и своих подруг, уже прыскавших в кулачки.
— Взбила волосенки-то? — продолжал Тимофей. — Консервную банку под них запихала, да? Или чего там?
— Тебе какое дело?
— А такое дело, что весь дом нараспашку! Скотина некормленная! Пиво в сельпо завезли, а взять некому! Ты чем думаешь, окромя консервной банки?..
Тимофей постепенно входил во вкус; было видно, что в запасе у него предостаточно ядовитых словечек; нотация продолжалась бы… Но внезапно Тимофей умолк. Пробормотал что-то, и умолк, и стал заливаться горячей краской; прямо-таки багровыми сделались его щеки, и лоб, и шея, и даже уши… У такого-то головореза! Вера Ивановна меньше бы поразилась, если бы покраснел председатель или ехидный старик с портфелем…
А секрет был прост. Среди этих деревенских школьниц стояло существо лет десяти, самое незаметное и скромное, в ситцевой юбке, в кофте со спущенными болтающимися рукавами (вероятно, материнской кофте), с волосами, небрежно заплетенными в тощую жесткую косичку, перевязанную чем-то вроде сапожного шнурка… Наверное, девочка сознавала, что пока нет смысла наряжаться, все впереди еще — и модные шикарные платья, и прически, и туфли, и часики на руке. Но власть свою, могущественную женскую власть, эта Золушка тоже сознавала, до конца сознавала, и к Тимофею был обращен пронзающий взор, в котором все было уже — от нахального вызова и до нежнейшей поволоки…
— А ты безрукий, что ли? — спросила между тем сестра Панька. — Надо будет — сам сделаешь. Не велик барин!
И повернулась и пошла, не обращая больше внимания на Тимофея, и все школьницы тоже двинулись, и засеменила рядом девочка в материнской обвисшей кофте, болтая рукавами, гордо подняв белобрысую голову с косичкой, задравшейся, как щенячий хвостик.
Надолго Тимофей затих, переживая эту встречу. Председательский «козел» бежал, бежал по вязкой черной дороге, по хрустевшим березовым костям; подскакивали и отшатывались назад старухи сосенки в фантастических лохмотьях, исчез тревожный запах гари; наконец болото кончилось. А Тимофей все сидел молчком, забившись в угол. Вера Ивановна и удивлялась, и посмеивалась, и даже посочувствовала Тимофею. Мысли у нее опять возникли странные, смешные. Никогда прежде не завидовала она молоденьким девчонкам, работавшим на студии; пусть они счастливей ее, беззаботней, удачливей, но в жизни любые плюсы уравновешиваются минусами. У Веры Ивановны есть что-то другое, пока недоступное этим девочкам. Жизнь Веры Ивановны наполнена, равновесие обретено. Завидовать нечему. А тут Вера Ивановна посматривала на Тимофея и думала с неожиданной грустью, что многое в ее жизни уже прошло, исчезло и никогда не вернется. Глупо жалеть об этом, а она жалеет. Надеется на свое счастье, верит в него, ждет радостей, и, наверное, все сбудется, все радости придут, какие ей отпущены. Только все равно грустно, почему-то.