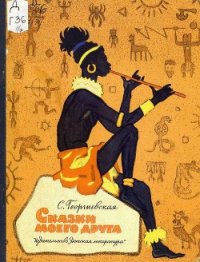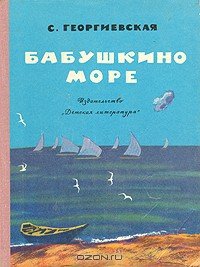Дважды два — четыре - Георгиевская Сусанна Михайловна (чтение книг .TXT) 📗
И опять она уходила во тьму, и опять светлело что-то за поворотом дороги.
«Мне жарко, — думала Нина Сергеевна. — Мне очень жарко. Мне недостает воздуху. Почему никто ничего не делает? Разве так можно?»
В какой-то из дней ей послышалась музыка. Она даже хотела пропеть эту музыку. Но сил недостало. Еще бы: дышать не хватает сил, а тут — пой!
Дни сменялись ночами. С кровати бессильно свешивалась ее рука. Сквозь кожу суховатой руки просвечивали вены. Пальцы, указательный и средний, были желто-коричневыми. От сигарет.
Но теперь даже во тьме тяжелых снов ей никогда не виделся дым папиросы. Желтоватые пальцы ни разу не ощутили, что сжимают сигарету.
Закрыв глаза, она как будто бы неслась над землей, над трубами, крышами, как это бывает в детских снах. Напрягшись, Нина Сергеевна расталкивала воздух руками.
Проводив Нину Сергеевну в больницу, Юра Богданов слепо зашагал по городу.
Ему виделась страдальческая складка, залегшая между ее бровей… Потом он вспомнил живой огонь ее глаз, которыми столько раз любовался.
Боль, испытываемая им, была сильней того бесконечно малого, что зовется человеческим самолюбием. То место в душе и жизни Юры Богданова, которое превратилось в боль, было, умиравшей Ниной Сергеевной. Она его не любила. Он это знал. Ну и что ж!
Он шел по летнему городу, залитому слепящим светом.
…Фрунзенская набережная. На той стороне реки — Нескучный сад. Он глядел на блестящую спокойную воду, в которой отражалось солнце. Видел деревья по ту сторону реки… И над всем этим в горячем летнем небе рядом с желтым солнцем, над кронами самых высоких деревьев, над блестящей водой, над пылью, которая носится по мостовым города, над расплавленным асфальтом и над склоненной головою Юры Богданова летела его молодая любовь.
«Пусть она никогда меня не полюбит… Пусть прогонит. Скажет: «Уйди» — уйду… Лишь бы только она…»
Нине Сергеевне было жарко. Она поднялась и взлетела. Она летела над хребтами Тэтнульда. Рядом с нею летел какой-то человек в снежно-белом халате. Ах да, его звали доктор Лунгстрем.
Она не могла понять, где слышала это слово, забыла, что прочла его на какой-то афише в те давние времена, когда ходила еще по улицам.
Этот доктор, доктор Лунгстрем, был в ее палате всего один-единственный раз… Небольшого роста, с редкими волосами, резкими движениями и тем особенным выражением лица, которое бывает у человека, когда рядом с ним происходит что-то торжественное, — он запомнился ей.
— Что за паника?.. Поверьте, через недельку другую она будет ходить как миленькая, — сказал он ее лечащему врачу.
И Нина Сергеевна не столько увидела, сколько услышала инстинктом тяжело больного человека, что этот врач так и не научился, видя смерть, оставаться к ней равнодушным.
Ни равнодушия, ни снисходительности, ни неизменного слова врачей «голубчик» не было в нем.
В нем была скрытая задушевность. Он был целителем подлинным — сострадающим.
И вот он летел теперь рядом с ней над хребтами Тэтнульда.
Ночь, которую они пролетали, была черной, без звезд и луны. В великой тьме полыхали черные знамена удушья.
Она летела и крепко держала доктора за руку.
Что-то светилось в ледяной черноте ночи… Выше, выше, к прохладе снегов и льда! Там легко дышать.
И вдруг он ступил на землю, оставил ее и пошел по горным дорогам. В руках он держал жестяную коробку, отламывал прохладные маленькие сосульки и складывал их в коробку. Для Нины Сергеевны.
…В эту ночь в палате несла дежурство стажерка-девушка, будущая медицинская сестра.
— Дышите! Глубже дышите, больная, — сказала девушка и поднесла к полуоткрытому рту больной кислородную трубку.
Очнувшись, Нина Сергеевна принялась дышать кислородом, чтобы доставить девочке удовольствие. И вдруг голова ее упала на согнутый локоть сестры.
— Скоро он и так уйдет от меня… Вырастет. Уйдет. Но он юн еще! Он был мой, мой… Что же это, что же это такое… У меня нет дочки, — вдруг прошептала она сестре. — Я бы хотела девочку… Я бы очень хотела девочку… Я всегда хотела сестру. Я хотела дочку…
— Дежурного! — засуетилась сестра. — У больной бред…
— Нет, нет, я обязательно буду жить, — успокоила девушку Нина Сергеевна. — Сегодня ночью я не умру, не бойся.
…Разгоралось утро. Освещало деревья в саду за окнами больницы имени Боткина.
Нина Сергеевна крепко спала, положив голову на согнутый локоть девушки-стажерки.
— Доктор Лунгстрем! Лунгстрем! — умоляла Юру Богданова Нина Сергеевна. — Позовите его, позовите Лунгстрема.
— Больная просит Лунгстрема… Разрешите, я его разыщу!
— Нет у нас такого врача! Выдумают тоже — «Лунгстрем»!..
Но это было одно-единственное ее желание. И она была так больна!..
Богданов стоял в саду больницы имени Боткина.
Из соседнего корпуса вышел человек небольшого роста в белом халате. За ним, как свита, шли доктора и студенты. Он шел стремительно… Лицо его было холодно. Более того — оно было надменно. Но Богданов узнал его.
— Это доктор Лунгстрем? — спросил он, схватив санитарку за руку.
— Какой вам еще Лунгстрем? Это Долговлас. Он в Боткинской консультантом…
Лунгстрем-Долговлас вскинул на Юру узкие насмешливые глаза. И вдруг глаза эти, густо-коричневые, без блеска, как будто бы вспыхнули.
— Прошу вас… — забормотал Юра. — Я вас очень, очень прошу… Шалаеву…
— Я помню эту больную, — сказал Долговлас. — Гемолиз?.. Не надо отчаиваться. У нее на редкость здоровое сердце. Шалаева?.. Выживет.
— Спасибо!.. Спасибо… Она… Она все время зовет Лунгстрема. Я знаю — здесь нет никакого Лунгстрема. Лунгстрем — это вы. И я вас прошу, понимаете! Я… я… — выдохнул Юра. И отвернулся.
12. «А-ах, Людмила, ты…»
Легковушка бежит вперед. Нет, не вперед, а вверх. Водителем — комсомольский секретарь Ивано.
Рядом с Костей — дикий Натэла. Она тоже едет в селение Калё. В гости к своему прадедушке — пастуху Гасвиани.
Натэла в брюках и куртке. На голове у нее неизменная голубая лента… Не замечает Костю. Третирует Костю… Даже, можно сказать, презирает Костю. То и дело выкрикивает что-то гортанно и коротко. И хохочет. Рот у Натэлы полуоткрыт. На щеках румянец. Натэла смотрит в окно…
Внизу, далеко внизу — Местия.
Сверху Местия кажется очень маленькой, будто видишь ее с борта самолета. Башни, башни, облитые солнцем. А горы лиловые…
Под тропой, под колесами движущейся машины, — кроны цветущих яблонь и груш. Летят орлы, широко разбросав крылья. Летят под машиной, а думают, что выше всех, потому что — птицы.
«Как я встречу ее? Что ей скажу? А что ей надо сказать?..»
А водитель машины, секретарь Ивано, не торопится. Рядом с ним ружьишко… Он то и дело останавливает машину, стреляет в горных индеек. Они падают жалкие, махонькие, опустив головы с поникшими клювами.
Когда Ивано стреляет, Натэла, выскочив из машины, останавливается поблизости и быстро-быстро лопочет что-то по-свански.
Он отдает ей ружье… Стреляет она. Почти не целясь… Влет, влет!
Взмахнула руками. В одной зажато ружье. Она счастлива. В траве у ног ее — окровавленный, вздрагивающий комок: птица с поникшим клювом. Экая, право, странная девочка…
Река.
— Ингур, Костья. Гляди, Ингур, — говорит Ивано.
На гигантском камне посредине Ингура, окруженная бурлящими водами, — башня.
…Домишки, дома, изгороди. Площадка для волейбола, огромное здание начальной школы, магазин, у дверей — продавец. Остановился и смотрит из-под руки на мчащуюся машину.
…Толпа людей. А впереди — девочка. Очень худая и очень тонкая. В черном платье и черной косынке. На ногах у нее такие же черные тапки, как на ногах учительницы. Девочка едва приметно сутулится, делает какое-то неуловимое движение и бежит. Бежит навстречу Косте, быстро-быстро перебирая в пыли худыми ногами. Лицо у нее желтовато-бледное, рот большой и странно знакомый. Глаза огромные, черные… Девочка вскидывает худые, тонкие руки: