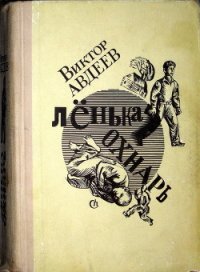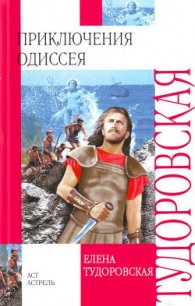Моя одиссея - Авдеев Виктор Федорович (полная версия книги .txt) 📗
Недели три спустя после приезда я застал Тадзика на улице перед калиткой. Через плечо у него висела сабля в блестящих ножнах, с золоченым эфесом. Тадзик словно не заметил меня и сделал вид, что садится верхом на воображаемого коня.
— Давай играть в снежки? — предложил я. — Хочешь, слепим крепость?
— Я храбрый рыцарь войска коронного гетмана, — вдруг сказал он мне. Уходи… зарублю.
И, выхватив из ножен саблю, он ткнул меня тупым острием в грудь. Я поймал его за руку, вырвал саблю. Тадзик вспыхнул и с криком: «Отдай, пся крев!» кинулся на меня с кулаками. Уж в драке-то я был поопытнее его. Бил он по-девчачьи сверху вниз, а не так, как ребята — с размаху или сильным тычком, и вообще больше корябался и кусался. После двух моих ударов Тадзик упал в снег, я прихватил его саблю и пустился бежать. Тадзик завизжал, кинулся за мной. Обернувшись, я увидел, что голубые глаза его пылают бешенством, испугался и далеко закинул саблю в сосновый бор. Пусть-ка поищет!
Тадзик догнал меня, толкнул, и я свалился в сугроб. Он стал бить меня ногами, попал в нос. Я взвыл от боли, вскочил весь в снегу — и теперь он бросился удирать. Мы понеслись через площадь. Тадзик бегал быстрее, и вот он уже вбежал в калитку. Здесь была граница, дальше я, по неписаным уличным законам, не имел права его преследовать. Тадзик начал дразнить меня «гайдамакой», показывать язык, кричать, что убьет за саблю. Я погрозил ему кулаком и ушел домой.
А в сумерках к нам явилась мадам Сташевская — в беличьем манто, высоких белых фетровых ботах, с холодным выражением красивых полных губ. Я увидел ее еще из окна, схватил потрепанный комплект «Нивы» и сделал вид, будто смотрю картинки. С бьющимся сердцем я прислушивался к тому, как Домна Семеновна несколько минут разговаривала с мадам Сташевской на кухне. Вскоре она позвала меня, сердито спросила:
— Ты зачем побил Тадзика?
Я опустил голову. Можно бы рассказать, как он меня дразнил «гайдамакой», первый кинулся драться, но в интернате мы твердо усвоили правило не фискалить. Я только шмыгал носом, и тут Домна Семеновна обратила внимание на то, что нос у меня красный и распух.
— И тебе гулю набили? Молодцы, молодцы. Где сабля? Ты ее хотел… утащить?
— Нет.
— Я ж вам говорила, мадам Сидорчук, — подхватила Сташевская. — Ваш мальчик где-то ее зарыл и сосновом бору.
В кухню со двора вошел Тимофей Андреич — в форменной шинели, закутанный башлыком; он всегда в это время являлся со станции обедать. Узнав в чем дело, он нахмурился, недобро посмотрел на меня, молча содрал льдинки с усов.
— Конечно, дети. Все бывает, — натянуто улыбаясь, проговорила мадам Сташевская. — Могут и поссориться, хотя Тадзик никогда никого пальцем не трогал. Но нельзя же отбирать игрушку. В наше время такую саблю нигде не купишь.
— Будьте благонадежны, — сказал ей Тимофей Андреич. — Ступайте домой и успокойте Тадзика, пускай не плачет. Саблю мы отыщем, я сам вам ее принесу.
Когда за мадам Сташевской закрылась дверь, Тимофей Андреич хмуро спросил, помню ли я место, куда забросил саблю. Затем велел одеваться, взял керосиновый фонарь, с которым ходили в коровник, и мы отправились в бор. На улице совсем стемнело, сосны тягуче гудели. Я с перепугу сбился со следа, бесконечно петлял и норовил забраться в самую чащу. «Почему бы не отложить поиски сабли до утра?» — подумал я, чувствуя, что набрал полные бурки снега. За все это время Тимофей Андреич не сказал мне ни одного слова, ни разу не упрекнул, но уж лучше бы он меня ударил. Часа полтора мы лазили по сугробам. Наконец Тимофей Андреич нашел саблю: она лежала под высокой сосной совсем недалеко от лесной опушки.
Вечером со мной никто не разговаривал. Наталка смотрела с любопытством, но тоже молчала: видно, ей так наказали. Я тихо, как проклятый, учил за столом уроки и лег спать чуть свет.
— Ну и шалопут, — вздохнула Домна Семеновна и покачала головой с жидкой седеющей куделью.
…Завьюжили февральские снега, замело улицы, тропки, за мною строже стали следить, реже выпускали гулять, и я целыми днями сидел в четырех стенах. В середине месяца из Киева проведать родителей приехали Михайловы. В это воскресенье я проснулся раньше всех, постоял у окна, удивляясь морозному узору на стекле: вот бы научиться так рисовать! Вышел в гостиную, где на стене висели старинные часы, чтобы узнать, сколько времени. О, завтрак еще не скоро — по-английски «ленч», как поучала пани Чигринка. Чем бы заняться? На пузатеньком буфете лежал медальон Веруши, украшенный розовыми и голубыми камешками, с длинной цепочкой. Я огляделся — никого: сердце вдруг заколотилось. Я схватил медальон и стал рассматривать. Золото! Вот оно какое. Совсем не тяжелое. Собственно, ничего особенного: железка, только желтая. И ведь у Новиковых я носил золото в свертке вокруг живота, только никогда не держал в руке.
Внезапно сзади скрипнула дверь, я бросил медальон обратно на буфет и почувствовал, что ужасно покраснел. Из спальни вышел доктор Михайлов в белейшей нижней сорочке, в шлепанцах, вышитых руками жены. Мельком глянул на меня и остановился.
— Ты что здесь делаешь? — удивленно спросил он.
— Ничего.
— Все-таки?
Тяжелый пристальный взгляд его черных цыганских глаз на этот раз особенно меня смутил. Я боялся свободно вздохнуть. Доктор, видимо, заметил, что медальон лежит на самом краю буфета, а конец его цепочки свешивается и предательски покачивается: впопыхах я бросил его кое-как.
— Ты здесь что-нибудь брал? — вопрос звучал настороженно.
— Я? Ничего. — И, не подымая головы, ушел в прихожую.
Минут десять спустя я издали через открытую дверь заглянул в гостиную медальона уже не было на буфете. Вскоре из своей спальни на кухню прошла Домна Семеновна с растрепанной седой куделью, застегивая пуговицы широкой, навыпуск кофты; она посмотрела на меня как-то растерянно и молча вздохнула. Немного позже я застал ее у комода, который играл роль семейного банка. Беззвучно шевеля поблекшими губами, она пересчитывала тощую пачку денег; увидев меня, повернулась спиной, сунула их в открытый ящик и заперла.
Я сел на диванчик. Из-за неплотно прикрытой спальни молодоженов услышал приглушенный голос доктора и почему-то сразу догадался, что он говори г обо мне:
— …меня бы это не насторожило, не будь странной истории с запрятанной саблей.
— По-моему, ты, Миша, преувеличиваешь, — ответила Веруша. — Он вообще немножко странный: идет — косится по сторонам, словно его кто ловит. Боится незнакомых людей. Ей-право, я замечала…
Мне очень хотелось подслушать, что еще скажет доктор, но дверь совсем прикрыли: наверно, догадались, что я рядом.
О золоте мне никто ничего не сказал, однако в завтрак за столом от взрослых потянуло холодком. Тимофей Андреич сопел, хмурился, сосредоточенно жевал.
Доктор словно не замечал меня, и концы его красных вывернутых губ еще брезгливее оттягивались к подбородку. Веруша с подчеркнутым оживлением рассказывала матери о киевских модах. Лишь Наталка ничего не подозревала и безмятежно мне улыбалась.
Вечером молодожены Михайловы собрались уезжать. Когда доктор уже надевал на кухне калоши, я несмело попросил:
— Передайте, пожалуйста, Боре Кучеренко поклон. Доктор поцеловал руку у тещи, обнял Наталку и лишь после этого, не глядя на меня, процедил сквозь зубы:
— Ладно, Передам.
Мне уже было известно, что «в дети» из гостиницы меня взяли Сидорчуки, а доктор только выполнял их волю. Я боялся его, мне казалось, что доктор меня не любит.
Наступили будни, и вновь потянулась домашняя скука, уроки у пани Чигринки, схватки с крысами и чтение книжонок, на цветной обложке которых были нарисованы безлобые бандиты, похожие на орангутангов. С Тадзиком Сташевским мне запретили играть. «Раз не умеешь дружить, то и нечего», — сказали мне дома. И я все чаще одиноко бродил по запутанным тропкам соснового бора.
В те дни, когда крутила метель или меня наказывали и оставляли в четырех стенах, я совсем не знал, чем заняться. У нac в Клавдиеве опять жила Веруша. Ее муж был занят в госпитале, и она приехала одна, чтобы пошить на Сидорчуковой машинке кое-что из белья. Веруша не раз спрашивала, почему я не могу «дружить с Наталкой, как все хорошие дети». Я бы уж и сам не прочь — но как? Во что мы, пацаны, играли в Новочеркасском интернате? В «коня-кобылу», в чехарду, «жали масло» — все развлечения не для девочек. И в одно ненастное утро меня вдруг осенила счастливая мысль. Карты — вот доступный досуг для «младшей сестры». На кухне у нас лежала затрепанная колода, на которой гадала глухонемая прислуга. Картежник я был заядлый и с полным знанием обучил Наталку в очко. Мы обрадовались такому интересному делу и пожалели, что я не вспомнил о нем раньше. Сидели мы в передней, на моем диванчике; игра шла под щелчки.