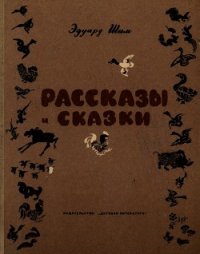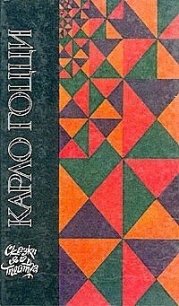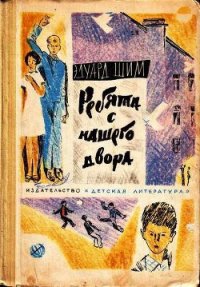Рассказы прошлого лета - Шим Эдуард Юрьевич (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
А ребятишки не забыли его; в ноябрьские праздники принесли от руки нарисованный, цветными карандашами раскрашенный билет — приглашение на концерт самодеятельности. Гусев сидел в первом ряду, на плюшевом директорском стуле; в двух шагах от Гусева ребятишки, выстроясь шеренгами, декламировали стихи, пели громкие патриотические песни. А Гусев плакал. Он сердился на себя, на старческую умиленность и слезоточивость свою, — ведь действительно глупо, когда здоровенный мужик, слонище, пускает нюни, тем более, что повидал этот мужик горюшка на своем веку. Он ругал себя, ругал, делал зверское неприступное лицо, а на душе легко было и прозрачно, сияюще светло. Умывалась душа, как в старые времена говорили.
С той поры каждое лето приходят к Гусеву ребятишки из санатория, пасутся в саду. Евдокия Ивановна иной раз пожалеет, что нельзя варенья наварить, посылочку отправить поднадзорному Павлику или Раиске. Гусев тогда набычивается, сопит грозно и подолгу не разговаривает с Евдокией Ивановной.
Вернулся знакомый шофер:
— Михаил, открывай ворота! Я тебе торфу привез!..
Оказывается, где-то на проселке опрокинулась бортовая машина, рассыпала торф по кювету. Не пропадать же добру, — знакомый шофер не поленился, пошуровал лопатой, собрал, что можно было. И привез Гусеву.
— В хозяйстве сгодится! Говори, где вывалить?
— Слышь, — сказал Гусев. — Спасибо, конечно… Только заплатить-то не смогу. Во вторник у меня пенсия.
Шофер натянул кепочку на глаза, выплюнул папироску, растер.
— Ты ошалел, что ли?
— Серьезно говорю.
— Эх, Миша, — сказал шофер, — стал бы я из-за пятерки горбатиться! Нужно будет — собью калым. Я тебе, как человеку…
— Ну, ладно, — смутясь, проговорил Гусев. — Ну, извини.
Шофер все-таки уехал обиженный. Гусев ощущал свою вину — неловко вышло, противно, совестно. Вроде взял и оскорбил человека. Но, с другой стороны, если рассудить, не такие уж они приятели, Гусев не выпивал с шофером, одолжений не делал. Наоборот: ругался безбожно, когда ходил в председателях. И непонятно, ради чего шофер сегодня старается, везет ему торф? И еще злится, когда говоришь о деньгах?
Впрочем, сколько раз на памяти Гусева посторонние люди, ничем ему не обязанные, вдруг делали добро, помогали без корысти, выручали в нелегкую минуту. И всегда терялся Гусев, чувствовал себя виноватым, растерянным. Наверное, он тоже сумел бы помочь этим людям, были возможности. Только вот — не помог.
Суматоха в деревне. Хлопают, закрываясь, окна и калитки, бабы запираются в домах, исчезло белье с веревок. Враз опустела улица.
Цыгане идут по деревне.
Мало теперь бродячих цыган, редко наведываются. Но те, что еще бродят, последние могикане, — существа почти сверхъестественные. Не отобьешься от них, на испуг не возьмешь. Пролезут сквозь щелку в заборе, насядут, голову задурят почище гипнотизера. Какая-нибудь баба деревенская моргнуть не успеет, как уже полон двор гостей, цыганята шастают в огороде, черные мужики с прутиками в руках толкутся у сарая; на крыльце, вывалив тощую коричневую грудь, цыганка кормит младенца, а подруги ее — уже в избе, уже гремят кастрюлями…
Сейчас они шли по деревне. Впереди цыганки в длинных своих, пыльных, криво надетых юбках, в черных мужских пиджаках, в цветных платках, заброшенных на плечо. Сзади — два или три мужика, скучающие, утомленные. Прутики в руках. Скрипят высокие офицерские сапоги, сахарно-белы рубашки с крахмальными воротниками.
Гусев стоял у калитки, задумавшись. Он не заметил, как подкатились цыгане, окружили его. «Хозяин, дорогой, мы родичей своих ищем, болгарских цыган, ты не встречал, дорогой?..» — заученно прозвучал женский, в трещинках, голос.
— Нет, — ответил Гусев, очнувшись, и поднял глаза под тяжелыми набухшими веками.
Наверно, что-то было в этих желтых, отуманенных мыслью глазах, во всей громадной и тяжкой фигуре старика, стоявшего картинно-прямо, величественно, с покойно и мощно лежавшими руками, обхватившими суковатую палку, что-то было такое, отчего цыгане примолкли. Они задержались на миг, переглянулись, вполголоса брошено какое-то слово, и вот — они уходят, пыля юбками, скрипя сапогами, таща за руку оглядывающихся цыганят.
Гусев посмотрел им вслед без интереса. А потом вновь, как уже было утром, озорная ухмылка появилась на лице, сморщился по-собачьи нос. Гусев увидел, как цыгане входят во двор к Забелкину.
Завопили всполошенные курицы. Затем с минуту держалась непонятная тишина, мертво было, словно нет ни души. И вот грянули человеческие голоса, взвился истошный бабий крик, загрохотало, зазвенело, будто швырнули ящик с посудой; стрельнула калитка, вылетают из нее мужики, цыганята, вылетают путающиеся в юбках, теряющие платки цыганки. А следом, крутя над головой железные грабли, несется вздыбленный сосед Забелкин, почти не касаясь ногами земли…
— Двух куриц как не бывало! — горестно сообщил Забелкин. Он держал в руках трофей: драный, в линючих цветах, цыганский платок.
Гусев, закрывшись ладонью, всхлипывал от неудержимого смеха. Привалился спиной к столбу, и деревянный столб трясся, подрагивал.
— Ржешь? — тихо сказал Забелкин. — Конечно, тебе что… А у меня всего десяток куриц.
— Больше ничего не взяли? — отдышавшись, спросил Гусев.
— Не успели.
— Ну, будь доволен.
— Радоваться прикажешь? Две самые лучшие курицы… Хотел на развод оставить.
— Не обеднеешь.
— Соседи! — произнес Забелкин с печалью и гневом. — Называется соседи! Друзья! Никто даже не крикнул, не предупредил… Видят же — калитка не заперта!
— Один я видел, — сказал Гусев. — Другие не видели.
— А ты не мог крикнуть? Соседушка! Я-то небось для всех стараюсь. И для тебя тоже! Вон — кто дорогу сегодня починил? Вы не почешетесь, а я целый месяц ходил, пороги обивал в учреждениях. И добился! Думаешь, легко самосвалы выпросить, щебенку? Представления не имеешь, чего это стоило!
— Молодец, — сказал Гусев.
— Дождешься от вас благодарности. Варвары.
Забелкин встряхивает пыльный цыганский платок, сворачивает его и зажимает под мышкой. Губы у Забелкина поджаты, вздрагивают.
— И когда мы жить научимся, как положено? — говорит он. — Когда у людей сознательность проявится? Вот я — кручусь с утра до поздней ночи. Депутатом был, так хоть десять рублей платили. А теперь на общественных началах стараюсь, за здорово живешь. То комиссия, то исполком, то жалобы, то подписка, то выборная кампания! И только подгоняют: тащи, тяни, выволакивай! А тут еще хозяйство! Семья! Дети! Попробуй-ка на мою пенсию выкрутись! Сил ведь никаких нету., А другой человек живет себе припеваючи. Ни забот, ни хлопот. На чужом горбу в рай едет. В армии такого нет, между прочим. Только на гражданке это безобразие возможно…
— Попал бы я в твою роту! — сказал Гусев, повторяя любимое изречение Забелкина.
— А что? Я б тебя воспитал!
— Представляю.
— Не представляешь. Оторвался от жизни. Думаешь, что всем легко живется… Ты где этот торф достал? Купил, что ли?
— По знакомству привезли.
— Вот видишь! Опять махинации! А где честному человеку достать? Не достанешь, хоть разорвись! У меня курицы без подстилки, лапы зимой отмораживают… Это справедливо? Это разве полагается, я тебя спрашиваю?
Забелкин всерьез огорчен. Стоит перед Гусевым изможденный, нервный, с провалившимися глазами. На подбородке седая щетина с заусенцами, как рыболовные крючки. Потерявшая цвет, пятнистая гимнастерка и коротенькие не по росту штаны (Забелкин бережет одежду, надевает дома последнюю рвань). Руки с потрескавшейся кожей, с землей под расплющенными ногтями, в порезах и ссадинах, в слипшихся от смолы, грязных волосиках. К левому башмаку привязана проволокой вторая подошва — нажимать на лопату, когда копаешь.
Гусев глядел на соседа, и смешно было Гусеву, и злость брала, и недоумение. И жалко было. Искренне жалко этого человека.