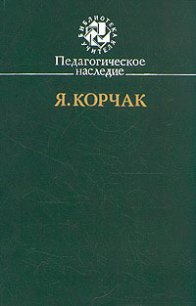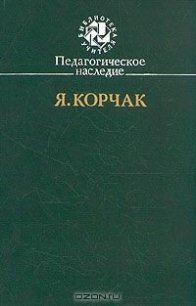Когда я снова стану маленьким - Корчак Януш (библиотека книг txt) 📗
— А вот если я тебе сейчас по уху дам, тогда что?
— Позову полицейского и велю вас арестовать за то, что вы драку в трамвае затеваете.
Тут все как начнут смеяться. И он тоже. Никто уже и не сердится, только хохочут, словно я что-то смешное сказал. Даже с места привстают, чтобы на меня посмотреть.
Я чувствую, что не выдержу, и говорю:
— Пропустите меня, я выхожу!
А он не пускает.
— Ты только что сел, — говорит. — Прокатись маленько.
А тут — еще тетка одна толстая такая сидит, развалилась и говорит:
— Ну и разбойник!
Я уже не слышу, как каждый изощряется.
— Пустите, я хочу сойти!
А он все не пускает.
Тогда я как закричу изо всех сил:
— Господин кондуктор!
Тут один какой-то вступился:
— Да ладно, пустите его.
Я сошел, а все на меня смотрят, как на диковинку какую. Наверное, потом еще полчаса потешались.
Иду я с этим платьем под мышкой, и взрослые мысли мешаются у меня с детской обидой и болью.
Я проехал только четыре остановки, до тетки еще далеко, но лучше бегом бежать, чем с ними лаяться.
А дома мама опять:
— Ты что так долго сидел?
Я ничего не ответил. Потому что мне вдруг показалось, что во всем виновата мама. Если бы я не вышел из дома раздраженный, то, может быть, не устроил бы в трамвае скандала. Столько раз уступаешь, ну, уступил бы еще раз. А пословица, словно в насмешку, говорит, что «умный уступит, дурак никогда». Ищи теперь умного.
Жалко мне, что день так славно начался и так никудышно кончился.
Я уже лежу, а заснуть не могу и думаю дальше.
Уж так, видно, и должно быть. Дома — не очень хорошо, а не дома — еще хуже. Значит, это им так смешно? Значит, раз я маленький, то мне нельзя позвать полицейского, а вот спихивать меня с трамвая, брать за шиворот и грозить — можно.
В конце концов, дети люди или не люди? И я уже даже не знаю, радоваться ли, что я ребенок, радоваться ли, что снег опять белый, или грустить, что я такой слабый?..
Я проснулся грустный.
Когда тебе грустно, это не так уж плохо. Грусть — такое мягкое, приятное чувство. В голову приходит равные добрые мысли. И всех становится жалко: и маму, потому что моль ей платье испортила, и папу, потому что он так много работает, и бабушку — веда она старенькая и скоро умрет, и собаку, потому что ей холодно, и цветок, у которого по-никли листья, — наверное, болеет. Хочется каждому помочь и самому стать лучше.
Ведь мы и грустные сказки любим. Значит, грусть нужна.
И тогда хочется побыть одному или поговорить с кем-нибудь по душам.
И боишься, как бы твою грусть не спугнули.
Я подошел к окну, а на стеклах за ночь появились красивые цветы. Нет, не цветы, а листья. Словно пальмовые ветки. Странные листья, странный мир. Отчего так сделалось, откуда это взялось?
— Почему ты не одеваешься? — спрашивает отец.
Я ничего не ответил, а только подошел к отцу и говорю:
— Доброе утро.
И поцеловал ему руку, а он на меня так внимательно посмотрел.
Теперь я быстро одеваюсь. Поел. Иду в школу.
Я выхожу за ворота и смотрю, не идет ли Манек. Нет, не идет.
Все лужи замерзли. Ребята раскатывают ледяные дорожки. Сначала маленький кусочек получается, потом все больше и больше, — вот и кататься можно. Я было остановился. Да нет. Иду дальше.
И вместо Манека встречаю Висьневского.
— Эй, Триптих, как живешь?
Я сперва даже не понял, что ему надо. Только потом уже сообразил: ведь это он мне прозвище дает, потому что я тогда триптих нарисовал. Я говорю: Отстань.
А он вытянулся по стойке смирно, отдал честь и говорит:
— Есть отстать!
Вижу, задирает, перехожу на другую сторону. Все же он мне раз наподдал. Тогда я взял да и свернул за угол.
«Время есть, — думаю, — обойду кругом. Ничего, не опоздаю». Опять свернул на другую улицу. Словно меня кто туда позвал, словно Подтолкнуло что-то. Бывает, сделаешь что-нибудь, а почему — сам не знаешь. И потом иногда хорошо, а иногда и плохо выходит. Когда выйдет плохо, говорят: «Нечистый попутал!» Даже сам удивляешься: «И зачем я так сделал?»
И вот, я сам не знаю как, делаю все больший и больший круг, совсем но другой дороге. Иду я, и вдруг на снегу песик.
Такой маленький, испуганный. Стоит на трех лапках, а четвертую поджимает. И дрожит, весь трясется. А улица пустая. Только изредка кто-нибудь пройдет.
Я стою, смотрю на него и думаю: «Наверное, его выгнали, и он не знает, куда идти». Белый, только одно ухо черное и кончик хвоста черный. И лапка висит, и смотрит на меня жалобно, словно просит, чтобы я ему помог. Даже хвостик поднял, вильнул — печально так, два раза, туда и сюда, будто в нем пробудилась надежда. И заковылял ко мне. Видно, больно ему. И опять остановился, ждет. Черное ухо поднял кверху, а белое — опущено. И совсем, ну совсем словно просит помочь, только ещё боится. Облизнулся — наверное, голодный — и смотрит умоляюще.
Я сделал на пробу несколько шагов, а он — за мной. Так на трех лапках и ковыляет, а как обернусь — останавливается. Мне пришло было в голову топнуть ногой и закричать: «Пшел домой!», чтобы посмотреть, куда он пойдет. Но мне его жалко, и я не крикнул, а только сказал:
— Иди домой, замерзнешь…
А он прямо ко мне.
Что тут делать? Не оставлять же его — замерзнет.
А он подошел, совсем близко, припал брюхом к земле и дрожит. И тут я понял, да, окончательно понял, что мои Пятнашка без-дом-ный. Может быть, уже целую ночь бродит. Может, это уже его последний час настал. А тут я, как нарочно, иду в школу совсем другой дорогой и могу его спасти в этот последний час.
Взял я его на руки, а он меня лизнул. Дрожит, холодный весь, только язычок чуть теплый. Расстегиваю пальто, сунул его под пальто, только мордочку на виду оставил, только нос, чтобы дышал. А он перебираю лапками, пока, наконец, обо что-то там не зацепился. Хочу его поддержать, да боюсь, как бы лапу не повредить. Обхватил его осторожно рукой, а у него сердце так бьется, словно выскочить хочет.
Если бы я знал, что мама позволит, то еще успел бы домой сбегать. Ну кому бы это помешало, если бы он остался у меня жить? Я бы сам его кормил, от своего обеда оставлял бы! Но возвращаться домой боюсь, а в школу меня с ним не пустят. А он уже устроился под пальто поудобнее, не шевелится и даже глазки зажмурил. Потом слышу, он уже немножко повыше, к рукаву подлез, даже свежим воздухом дышать не хочет, засунул мордочку в рукав и туда дует. И уже теплее стал. Наверное, сейчас уснет. Потому что если он всю ночь пробыл на морозе и не спал, то теперь уж наверное уснет. Что мне тогда с ним делать? Гляжу по сторонам, вижу: рядом лавка.
«Будь что будет. Войду, Может, он из этой лавки?»
Знаю, что это не так, но все равно попробую, что же еще делать?
Вхожу и спрашиваю:
— Это не ваш песик?
А лавочница говорит:
— Нет.
Но я не ухожу. Если бы у меня были деньги, я бы ему купил молока.
А лавочница говорит:
— Покажи-ка его.
Я обрадовался, вытаскиваю песика, а он уже спит.
— Вот он, — говорю.
А она словно передумала:
— Нет, не мой.
— Может, вы знаете, чей? Он ведь, наверное, откуда-нибудь отсюда…
— Не знаю.
Тогда я говорю:
— Замерз он.
Держу его на руках, а он даже не пошевельнется, — так крепко спит. Можно подумать, что умер, только слышу, дышит — спит.
Я стесняюсь попросить лавочницу, чтобы она его хоть на время взяла. Потом бы я его забрал. И тут мне приходит в голову, что если не она, так, может быть, школьный сторож подержит его у себя во время уроков. Потому что на втором этаже сторож злой, а на третьем — добрый: разговаривает, шутит с нами и карандаши чинит.
А лавочница говорит:
— Ты разве на этой улице живешь?
Она, мол, меня не знает и покупать я не покупаю, так чего же я туг стою?
— Ну, иди, иди, — говорит, — тебя мать в школу послала, а ты с собакой забавляешься! И дверь хорошенько закрой.