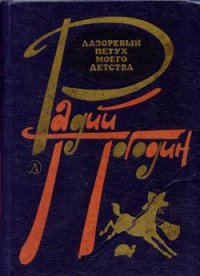Где леший живет? - Погодин Радий Петрович (читаем книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Станция была оцеплена – никто из местных не толкался на ней. Полицай из оцепления, широкий, огрузший от пожилой силы, сидел спокойно, как бы дремал. Иногда, словно пробудившись, доставал из ручья бутылку, делал большой неторопливый глоток, отчего шея его раздувалась и краснела. Полицай выдыхал спертый воздух из груди шумным единым дыхом, снова ставил поллитровку в ручей, чтобы сохранить в холоде вонючий спиртовой огонь, и, медленно шевеля челюстями, жевал кусочки вяленого леща. Лещ лежал у его ног на немецкой газете, костистый, килограмма на два весом до того, как его завязали. Рядом с лещом томилась ржаная краюха, прикрытая пышно-серым листом лопуха. Полицай хлеб жевал, отщипывая его небольшими крошками.
Володька притаился в траве. Приподняв голову, видел, как полицай пьет и закусывает. Хоть бы шкуру оставил, гад. Шкура у леща жирная. Мысль о шкуре владела Володькой недолго. Он вообще не обладал постоянством мысли – чуть возникшую, начинал развивать. Не прошло много времени, и Володька думал уже, каким образом самому съесть леща, пока его полицай совсем не съел.
Внизу, под пригорком, шевелилась станция. Она была забита эшелонами, автомашинами, немцами. Немцы слонялись за кипятком, чего-то пили, чего-то ели, иные выходили за оцепление и возвращались обратно с цветами – ромашками. Один прошел совсем близко. Полицай встал, равнодушно сказал немцу: «Хайль». Немец ответил ему: «Зер гут». Полицай снова сел булыжной спиной и булыжным затылком к Володьке. Это незначительное событие и побудило окончательно Володьку к действию.
Подкравшись к полицаю вплотную, Володька гаркнул хрипатым басом:
– Хайль Гитлер!
Полицай смирно поднялся. Тут Володька схватил леща. Но, видимо, не додумал до конца свою мысль с голодухи. Леща нужно было тянуть беззвучно и так же беззвучно, ползком, пятиться, а потом сигать в кусты, и ищи-свищи. Короче говоря, «хайль» погубил все дело. Вставший на ноги полицай догнал Володьку в два счета. Володька втянул голову в плечи, прикрывая ее руками, в которых держал леща.
Из-под леща, как из-под козырька, он увидел полицаево лицо и сомлел. Два черных глаза, как граненые камни, сыпали острыми искрами. Один глаз дикий, другой и вовсе лешачий, выпученный вперед страшным дулом. Бровь задрана – чуть ли не поперек лба. Лоб смят, словно посередке глубокий шрам. Угол рта под лешачим глазом сполз книзу – и в растворе губ сверкают белые зубы. Шея сведенная, словно кость поперек горла стала.
– Битый, – сказал полицай. – Битый, а глупый. – Он поднял руку, и Володька съежился – в голове у него запылало, будто сунули в череп горсть красного уголья.
– Смотри! – закричал Володька. – Смотри ты, сколько на станции крыс. – В ожидании удара Володька всегда плел околесицу, не специально и не обдуманно, околесица – чушь несусветная – сама плелась, иногда странным образом охраняя Володькину голову от разорения. – Крысы! – шумел Володька. – Бегают, опоясанные ремнями. Котятки – малые ребятки, крысы всех вас сожрут. И тебя сожрут, – сказал он полицаю строго. – Нужно «Хайль!» кричать, тогда не сожрут. – Володька во всю мочь заорал: – Хайль Гитлер!
– Я тебе дам «хайль». По хайлу и дам.
Полицейский дал ему по губам ладонью, сильно, мягко и плотно, словно ударил в донышко бутылки, чтобы вышибить пробку.
– Тронутый, – сказал он. – Все равно уж пропащий.
Володькина шея скруглилась, сжалась в его толстых шершавых пальцах. Пальцы коснулись друг друга под нестриженым Володькиным затылком и разошлись. Полицай стоял над Володькой белый, в глазах у него, где-то на самом дне, черном и зыбком, тлела тоска.
– А-ааа! – закричал Володька.
Полицай взял его под мышку и, широко шагая и тяжело дыша, понес к станции.
– Отпусти, гад! От тебя чертом пахнет! – крикнул Володька.
Полицай бросил его на землю, но совсем не отпустил, он тянул теперь Володьку за шиворот и дышал еще громче, словно и не легкого, тщедушного мальчишку тащил, а огромный камень на шее.
Чтобы отомстить полицаю за несъеденного леща, за испуг, Володька наскреб вшей в голове – сунул их полицаю в карман. Еще наскреб вшей, сунул туда же и захихикал. Потом, едва поспевая за скорым размашистым шагом, Володька принялся плевать полицаю на штанину – все норовил попасть на сапог. Подумал было: «Куда он меня?» – но беспокойная его голова, не терпевшая ничего незаконченного, тут же ответила на этот вопрос: «Куда бы ни привел, хуже не будет. Черт с ним, все равно удеру, лишь бы по голове не били да хоть немного дали жратвы».
С полицаями Володька изредка ладил. Хоть и не слишком гордо, но, в общем-то, справедливо полагал он, что лучше у полицая жратву сожрать, чем выпрашивать у голодной крестьянки с ребятами. Полицаи – жижа болотная. Их тоскливая отчужденность легко переходила в безответную доброту, слезная дружба – в лютую ненависть. Они дрались между собой так неистово, словно вдруг не оказывалось у них более злого врага, чем сегодняшний друг. И не будь немецкого меткого глаза, их стая давно бы рассыпалась по лесам. С воем и кашлем побежали бы они в дальние дали, где бы их одиночество среди чужих людей было хоть как-то оправдано.
Чего Володька не мог – воровать. Он придумывал план не только для себя, но и для тех, у кого воровал. Свои планы он выполнял с точностью, но те, у кого он пытался что-то стянуть, всегда нарушали их. Однажды, совсем отчаявшись, Володька подошел к мужику, евшему мерзлое сало, и, пританцовывая на снегу, сказал деловито, даже с обидой:
– Дяденька, ты вон туда гляди.
– А зачем мне туда глядеть? – спросил мужик.
– Нужно по плану, – сознался Володька.
Мужик хмыкнул:
– Ага. Значит, я буду туда глядеть, рот раззявя, а в это время ты у меня сало стибришь.
Володька кивнул горестно.
Мужик засмеялся, отрезал ему кусок, дал хлеба, да еще легонько по заду дал и прибавил в словах:
– Воровать не можешь – проси.
Просить Володька умел. У женщин, особенно у старых, просил многословно. У мужиков просил с опаской, долго приглядываясь и не подходя близко, задавал вопросы. По тому, каким блеском блестели мужицкие глаза, по ответам, по молчанию, по ухмылкам, по другим тонким приметам определял, что ему говорить дальше и куда поворачивать. Если все приметы сходились как надо, Володька задавал вопрос:
– Дяденька, вы думаете, Гитлера повесят, когда поймают? Не-а. Раскалят лом с одного конца и холодным концом Гитлеру в задницу воткнут.
– Почему холодным? – спрашивал мужик обязательно и разочарованно.
– А чтобы никто не смог вытащить, – отвечал Володька и хохотал и приплясывал.
Полицай, который сейчас Володьку тянул, был ему непонятен и поэтому страшен.
Полицай приволок Володьку в конец эшелона, к раскрытой теплушке. Рывком поднял его, швырнул внутрь.
– Возьмите, пока его до смерти не забили. Тронутый он. – Полицай бросил в вагон недоеденного леща и краюху и, повернувшись круто, пошел напрямик через рельсы.
Володька подгреб леща и краюху к себе и только тогда огляделся.
На соломе вдоль стен сидели и лежали ребята – стриженые мальчишки, стриженые девчонки. Одна нестриженая, но не девчонка уже, стояла у распахнутой двери.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Володька с треском оторвал со спины леща кожу:
– Гаденыш, змееныш, ублюдок, сирота, воришка, попрошайка, собачье дерьмо, паскудник… А вас как?
– Меня зовут Полина Трофимовна. Это дети. Мы из детдома. А ты откуда?
– Откуда-то черт принес… А может, в капусте нашли. – Володька рвал зубами леща, кусал хлеб и, захлебываясь торопливой слюной, громко, нахально чавкал. Он их презирал: «Сволочи, а не детдомовцы – с немцами на поездах ездят».
– Вши есть? – спросила Полина Трофимовна.
– Полно. Умные, стервы, они от войны заводятся.
– Мальчики, остригите его, – сказала Полина Трофимовна.
Двое мальчишек поднялись с соломы, оба старше Володьки и гораздо сильнее.
Володька оскалил зубы:
– Кушу.