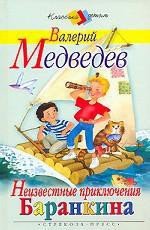Библиотека мировой литературы для детей, т. 29, кн. 3 (Повести и рассказы) - Алексеев Михаил Николаевич (книги онлайн TXT) 📗
— Катерина Платоновна-а!
Сила Мартыныч догонял их в розвальнях, запряженных гнедой кобылой с заиндевелой мордой и плешинами снега на толстых боках.
— Катерина Платоновна, куда в непогодь?
Сила Мартыныч, поравнявшись с ними, остановил гнедую.
Им пришлось потесниться от саней, почти по колено в снег.
— Гостя, видать, провожаете? — усмехнулся он, пристально и непонятно как-то вглядываясь в Арсения. — Знакомы. Вчерась баба моя наменяла ситцу у вашего гостя. До разъезда шагаете? Далеконько по вьюге. Чужого не взял бы, а Катерины Платоновны гостя как не уважить? Садитесь. Мне на разъезд. Подвезу.
— Неужели? — заорал Арсений. — Вот так удача! Неслыханно!
Бросил в розвальни мешок и котомку и сам бросился с размаху, плашмя, в сено, ловко перекинув ноги через грядку саней.
— Что же вы? Не простимшись? — удивленно, с укором сказал Сила Мартыныч.
— Всю дорогу прощались. Прощай, Катя! Ксении Васильевне привет! — радостно закричал Арсений, не опомнясь от такой уж совершенно нежданной удачи.
Он хотел вскарабкаться повыше на сено, прикрывавшее какой-то груз, но Сила Мартыныч остановил его:
— Сбочку прикорните, меньше продует.
Щелкнул вожжами, гнедая рывком дернула розвальни и резво побежала, хрупая селезенкой и откидывая из-под копыт снежные комья.
Катя стояла без слез, без мыслей, не понимая. Все произошло слишком быстро. Вынырнула из вьюги лошадиная морда и исчезла.
Сани удалялись. Дальше, дальше. Вот уже смутно видно сквозь пургу темное пятно.
А вот и не видно.
Катя закоченела. Назад идти тяжелее, ветер в лицо.
Небо, поле, снежная мгла — все смешалось, клубилось, слепило…
…Он кинулся в сани, счастливый, что повезло. Ему повезло…
Он даже скрывать не хотел своей радости. Что скрывать? Разве он ее обманул? Разве он что-нибудь обещал? Разве он ей сказал: люблю?
На улице Катя не встретила никого. Слава богу, из-за вьюги все сидят по домам. К тому же сегодня воскресенье.
Она еле тащила ноги. Еле тащила, каждая по пуду. Не обморозить бы нос. Ресницы потяжелели и слипались от снега.
На крыльце намело сугроб. Она с трудом отворила входную дверь и из сеней пошла не направо, в кухню и комнату, а налево, в класс. Надо немного побыть одной. «Никого не хочу видеть. Ни с кем не хочу говорить».
Холодно в классе. По воскресеньям Авдотья не топит; холодно, мрачно, но Кате надо побыть немного одной.
Она села за свой учительский столик, положила локти на стол, голова бессильно упала на локти. Всю эту ночь она не спала ни минуты. А прошлую ночь читала «Пана». Мучительная, чарующая повесть.
Глаза закрылись. Она уснула внезапно, как провалилась в яму. Проснулась Катя через несколько часов в страшной тоске. Класс выстыл, дыхание слетало изо рта белым паром. Катю трясло от холода. За окнами, в мутной мгле, несло все вкось и вкось мелким колючим снегом.
Вдруг ужас пронзил Катю. Что-то зловещее, черное непоправимо обрушилось на нее.
Медленно, очень медленно, боясь идти, она пошла в кухню. В кухне, всегда теплой и уютной, сегодня нетоплено. Кринка из-под молока неубранная стоит на столе.
Катя постояла у двери в комнату. Отворила. Да, случилось то, что она уже знала и чувствовала, когда проснулась в невыносимой тоске.
Баба-Кока лежала на кровати, лицом к стене, накрытая с головой одеялом, в той позе, как утром ее оставила Катя, выйдя на цыпочках, чтобы не разбудить.
Бесшумно синели сумерки на дворе. Уроки на сегодняшний день кончены. Ученики разошлись по домам. В комнате топилась голландская печь. Жарко потрескивали березовые поленья, стреляли угольками. Катя сидела у печки одна. На полу, обхватив колени, как раньше часто сидела в прошлые сумерки. Только теперь одна…
Правда, ее мало оставляли в одиночестве. В первый же вечер после похорон притопал Федя Мамаев с товарищем.
— Председатель прислал домовничать. Да мы и сами.
— Бон-жур, ка-ма-рад! — старательно, по слогам выговорил Федин товарищ и захлопал ресницами, не зная, в точку ли попал с камарадом.
— Тетенька Авдотья просилась, а председатель нам велел. Она понять-то поймет, да не ответит. А с нами поразговаривать можно.
Они изо всех сил старались отвлекать от горя свою учительницу Катерину Платоновну. Как бы она была без них? Пропала бы Катя без них.
Ученики по очереди приходили к ней вдвоем ночевать и укладывались валетом на скрипучей кровати Ксении Васильевны.
А топила голландскую печку Катя одна. Сидела у печки, ворошила угли кочережкой и думала.
Все знали, учительница шибко горюет о бабушке. А другое? Никто не знал о другом. Если бы одно это горе! Если бы одно это горе, внезапное, такое отчаянное, что хочется головой биться о стену!
Раскаяние, стыд рвали на части Катино сердце. Никто не знал, что в ту ночь, когда ее красивая бабушка, с прической венцом и горделивой осанкой, когда баба-Кока окликнула ее перед смертью, Катя не отозвалась. Притворилась, что спит. И если бы Арсений в то вьюжное утро, когда она его провожала, позвал… Стыд. Горе и стыд.
Нет! Этого не было. Не могло быть. Пусть бы он упал перед ней, прямо в снег, и обнимал ее ноги в валенках, молил, клялся в любви и говорил необыкновенные слова, какие говорят только в книгах, разве могла она забыть бабушку? Кинуть? Люди, я гляжу вам в глаза, гляжу вам прямо в глаза, не стыжусь, не было этого…
Катя сидела у печки, обхватив колени, тихо покачиваясь из стороны в сторону, мыча, как Авдотья, сквозь зубы.
Огонь плясал и ярился, сухие поленья дружно сгорали, скоро груда раскаленных углей плавилась, как металл, дыша в лицо жгучим жаром.
В дверь постучали. Она не ответила. Петр Игнатьевич вошел, не дождавшись ответа. Скинул полушубок, бросил у двери. Пахнуло овчиной, махоркой и морозной свежестью улицы. Петр Игнатьевич переставил от стола к печке стул, сел. Помолчал.
— Плачь не плачь, а жить надо, Катерина Платоновна.
— Живу. А зачем?
— Не дури, Катерина Платоновна.
Она подняла на него тусклый взгляд.
— Петр Игнатьевич, один раз я проснулась, а баба-Кока… Ксения Васильевна печку топит. Утром. Мы утром в комнате никогда не топили. Нет, она что-то сжигает, а я не остановилась, не обратила внимания… Не спросила, а она… — Катя всхлипнула, проглотила плач, — она письма сжигала и шкатулку. У нее шкатулка была с тройкой коней, она в ней письма хранила. И сожгла. А потом говорит: «Наверное, скоро умру». И меня утешает: «Нет-нет, не скоро…» А я не догадалась ни о чем…
Петр Игнатьевич опустил руку Кате на плечо. Худое, тонкое плечо утонуло в его жесткой ладони.
— Твоя бабушка с ясной душой век прожила. Ты при ней была все равно что у Христа за пазухой. Тьфу, понятие старорежимное, не выкинешь никак из башки! Иначе скажем. От Ксении Васильевны всяк ума нахватается. Бывало, придешь… А, да что вспоминать! Большая беда, Катерина Платоновна, на тебя навалилась. А ты одолей, не то она тебя одолеет. А тебе жить надо.
— Как я перед ней виновата! — отчаянным шепотом выговорила Катя.
— Живой перед мертвым завсегда виноват. Что сделал не так, поглядел не так, после-то во сто раз виноватит.
— Я не могу вам рассказать, Петр Игнатьевич…
— И не надо. Я не поп, передо мной исповедоваться. А ты себя не грызи, помучилась и утихни. Ты то пойми, что народу нужна. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намеднись простыл, кашель привязался, так мать насилу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила. Были две, осталась одна. На тебя вся надежда. А ты нашего иваньковского общества надежду не на все сто оправдываешь. Долг за тобой. Вправе требовать. Что брови вскинула? Обижаешься? Обижайся, а слушай. Совесть у тебя, Катерина Платоновна, есть, а боевитости мало. Мало, говорю, боевитости, революционного духа, что на геройство толкает. Девушки в твоих годах, случалось, против беляков воевали. Сам видал. Из винтовки бабахнет, а ее стволом в плечо толк, назад инда качнет, а она опять же стреляет. Где твой героизм, Катерина Платоновна?