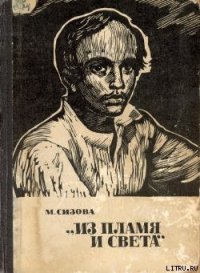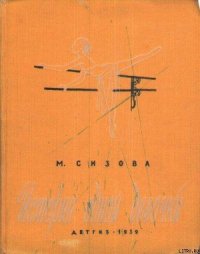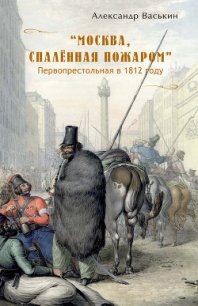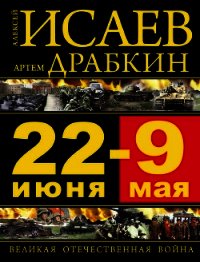«Из пламя и света» (с иллюстрациями) - Сизова Магдалина Ивановна (читать книги онлайн без регистрации txt) 📗
Они веселились в тот вечер, вспоминая его проделки, и университетскую историю с калошами профессора Малова, и «нумидийский эскадрон» в юнкерском училище, и замечательную встречу Нового года в московском Благородном собрании с предсказаниями «неизвестного астролога».
В этот последний приезд оживление Лермонтова и его сверкающее остроумие казались неистощимыми.
Накануне отъезда он был молчалив и печален. Евдокия Петровна Ростопчина, устроившая в этот вечер прощальный ужин, не могла его развеселить.
— Итак, вы уезжаете… — сказала она, с грустью посмотрев на Лермонтова. — Бесконечно жаль!.. И я даже не смогу прочесть вам моих стихов, которые, конечно, никуда не годятся по сравнению с вашими!
— Как вы несправедливы к себе! — горячо возразил он.
— Нет, нет, не спорьте. Что-то привезете вы нам, когда вернетесь совсем? Ваша проза — совершенство.
— Когда вернусь? — повторил Лермонтов и, задумавшись, посмотрел на нее. — Мне кажется минутами, что я не вернусь больше.
— То есть как это? Вы решили остаться на Кавказе навсегда?
— Наоборот, — сказал он, — это решение не мое, а тех, кто меня туда посылает. Я хочу получить отставку и всецело заняться литературой. А мне отставку ни за что не хотят дать, а на Кавказе много свистит шальных пуль…
— Вы должны очень беречь свою жизнь, потому что она нужна России, — ласково сказала Ростопчина.
То же самое сказал ему Одоевский, прощаясь.
…Утром на почтамт к московскому мальпосту [46] пришел Аким Шан-Гирей. Он подошел к Лермонтову и, обняв его, заплакал.
Лермонтов повторил ему подробно все, что нужно передать Краевскому, о чем следует сказать Жуковскому. Шан-Гирей смотрел на Лермонтова и вытирал слезы.
— Ну полно, Аким! — сказал, улыбаясь, Лермонтов, целуя его мокрое от слез лицо. — Ты словно ребенок. Ведь это только бабушке простительно плакать, прощаясь со мной. Бедная бабушка! Надо же было, чтобы распутица не дала ей приехать! Кабы не этот проклятый приказ, съездил бы к ней в Тарханы, она бы и успокоилась. Ты поцелуй ей за меня ручки, Аким, и не оставляй ее. И не плачь, милый, право, не о чем! Да журналы, журналы присылай с каждой почтой!
Он отгонял от себя все опасения, отгонял свою тоску, но она вновь и вновь овладевала им, и только Столыпин, который ехал с ним вместе, рассеивал его печаль. Может быть, кончится скоро эта война, или, получив рану, он заслужит, наконец, отставку! Ах, если бы это сбылось, милый Монго!
ГЛАВА 10
— Le beau Столыпин, — спросил Лермонтов, — скажи ты мне на милость, что ты будешь делать теперь на Кавказе?
— То же, что и ты: воевать с горцами.
— Ну, а если я не буду воевать с ними?
— Как же это ты не будешь?
— Не знаю как. А славный будет денек нынче!
— Денек действительно чудесный, — отозвался Столыпин, — но меня в данный момент больше занимает то, что ты сейчас сказал. Как ты можешь не воевать, ежели тебя — и меня вместе с тобой — пошлют опять в дело? А это непременно так и будет, как только мы явимся. Ты приобрел славу храброго офицера, в особенности после боя при Валерике.
— Да, не успел я сказать тебе: я описал этот бой. И теперь, когда вспоминаю его и ту речку, которую утром видел такой чистой, с прозрачной водой, а после боя — красной от крови, то хотя знаю, что быть под нашей русской властью для горцев лучше, чем «под туркой», — не могу принять сердцем эти бои. Ведь в самом свободолюбивом горском народе есть немало людей, которые понимают пользу присоединения к России и хотят его. Так не лучше ли было бы и остальных убедить словом, а не пулями!
Бесконечные поля. Шум берез, а невдалеке от дороги все так же трудились мужики и бабы, точно это было их вечным уделом.
«Люди», — вспомнилось Лермонтову непонятное ему в детстве слово, которым ключница Дарья Григорьевна называла и тархановских и всех иных крестьян, продаваемых и покупаемых.
Подумать только, что этой же дорогой, уже ставшей знакомой, везли его на Кавказ еще в детстве!
Монго подремывал, читал, записывал иногда что-то в свою записную дорожную книжку, на почтовых станциях заказывал обеды. И хозяева, как всегда, добывали для него все, что он требовал, даже хорошее вино.
Жаркая пыль уже поднималась за колесами, и в полдень небо бледнело от зноя.
Тучи проходили стороной, где-то вдалеке проносились полосы ливня, но воздух свежел. Вечером Ваня достал фляжку с вином, и, попробовав его, Лермонтов одобрительно сказал:
— Хорошее вино! Где-то я его недавно пил? А, знаю! В Москве в ресторане, где познакомился с переводчиком Боденштедтом. Вот, Монго, славный немчик! Сантимента германского полон до отказа, и щечки такие розовые — ну просто прелесть! Я как увидел его, так и стал куролесить и князя Васильчикова дразнить.
— Какой смысл в этом? — пожал плечами Столыпин.
— Смысла в этом большого, надо признаться, нет, но когда я увидел этого немчика, мне непременно захотелось, чтобы он не думал, будто у русских поэтов за спиной крылышки, как у ангелочков. Так я, знаешь, Монго, до того раздразнил Васильчикова, что даже сам расстроился. И все в честь Боденштедта! Ну, с князем я, конечно, тут же помирился, с беднягой.
— Вот и прав Краевский, — наставительно сказал Монго, — когда говорит, что тебе еще гувернер нужен.
— Мой гувернер теперь шеф жандармов. А жаль, что гроза прошла мимо, — Лермонтов поднял голову, оглядел все небо. — Ну что ж, давай спать, Монго, время пройдет скорее. Но если бы ты видел, как хорохорился там, в ресторане, этот молоденький! Он мне очень понравился и ужасно напомнил тархановского петуха.
— Ты — первый задира. И благодаря этой привычке можешь нажить себе серьезных врагов.
— Некоторых людей иногда ужасно хочется подразнить! Но ты прав. И как это ты ухитряешься всегда быть правым? А вот, Монго, очень хороший человек — Самарин. Я в этот приезд с ним часто и у него и у меня, то есть у Розена, видался. Я ему за полчаса до отъезда мой «Спор» принес для «Москвитянина». И знаешь… — Лермонтов остановился, он увидел, что Столыпин спит.
ГЛАВА 11
Они проснулись почти одновременно от резкого толчка.
— Ваня! — крикнул Лермонтов. — Что это такое?
— Колдобина, Михал Юрьич. А впереди река разлилась. Воды — сила!..
Столыпин и Лермонтов вышли из кареты.
Почти полная луна, отражаясь в высокой воде, покрывавшей корни молодых берез, сияла мутноватым призрачным светом сквозь весенний туман.
Но ехать дальше было нельзя. Пришлось свернуть в ближайшую деревню, чтобы, заночевав на постоялом дворе, утром ехать в объезд.
Когда на постоялом дворе они уселись покурить на завалинке, Лермонтов сказал:
— Ты, Монго, заснул, а мне хотелось еще поговорить с тобой о том, что очень для меня важно, — о врагах и вообще о войне.
Столыпин курил трубку и выжидательно смотрел на Лермонтова.
— У нас в Тарханах, еще в детстве, я пережил одно удивительное чувство. Были мы с мсье Капэ у деда Пахома. Он в Бородинском бою участвовал, пушкарем. И собрались к нему мужики, которые тоже в Бородинском бою были, — на моего француза поглядеть: какие, мол, эти французы, враги недавние?
И вот, понимаешь ли ты это, Монго, собрались эти недавние враги, убивавшие друг друга, и вижу я, что никакой между ними вражды нет! Говорят о сражении, о ранах, друг друга рассматривают, даже поддразнивают: мы-де вас во как! А злобы никакой у них нет. И понял я тогда, смутно понял, что нет причины у нашего деда Пахома ненавидеть мсье Капэ и желать его уничтожения и нет причины у французского крестьянина ненавидеть тархановского.
— Я помню, — сказал Столыпин, — что очень сходные с этим мысли мой отец высказывал, только я в то время еще глуп был и не понимал его.
— Ну вот, — очень довольный продолжал Лермонтов, — а я теперь, умудренный жизнью и опытом, пришел к следующему твердому заключению. Я тебе скажу, что ни один народ своей доброй волей войны не затеет и на войну не пойдет. Вот когда каждый народ поймет, что настоящий, со здоровой душой человек не может бежать со штыком наперевес, чтобы проткнуть им живот другого человека, никогда не сделавшего ему никакого зла, когда каждый народ поймет, что такое занятие преступно, невыносимо и омерзительно, — тогда войны кончатся. Они станут невозможными волею самих народов.
46
Мальпост — почтовая карета.