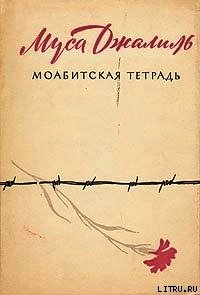Мокрые под дождем - Соловейчик Симон Львович (читаем книги TXT) 📗
Сережка по дороге рассказал мне немного про дядю Мирона. Он занимался довольно незаметным делом — заведовал районной фильмотекой, хранил и выдавал копии фильмов. У него была одна страсть: он всю жизнь учился. Учился в институте иностранных языков, потом учился в вечернем технологическом, потом еще где-то, в институтах и на курсах… Семьи у него не было, и должностей никогда не было, и всю жизнь его где-то мотало и носило. По словам Сережки, выходило, что дядя был своего рода прожигателем жизни. Но радость он находил не в пирах-попойках, не в развлечениях, а в узнавании нового. Тут был его пир, и он позволял себе роскошь, мало кому доступную: он учился ни для чего — просто в свое удовольствие. Это доставляло ему наслаждение.
Сережка говорил, что спрашивать дядю Мирона: «Что вы знаете?» — не стоит; легче спросить: «Чего вы не знаете?»
Сережка как-то задал ему такой вопрос:
— А чего ты не знаешь, дядя Мирон?
Дядя Мирон отнесся к вопросу вполне серьезно. Он перечислил несколько новых наук, сказал, что теорию информации знает слишком поверхностно, потом заговорил о своих пробелах в палеонтологии.
Между прочим, именно дядя Мирон подарил Сережке ту толстую тетрадь в рыжем дерматине. Он сказал при этом: «Видишь, какое богатство? Она, наверно, толще той, в которой Эйнштейн записал свою теорию относительности. А если бы она попала в руки Толстому? Кто знает цену чистой тетради?»
Я представляю себе, как должны были подействовать подобные слова на Сережку. В ту пору все, что в принципе возможно, казалось Сережке уже осуществленным. Для него не было разницы между воображаемым и действительным. Неожиданная мысль производила на Сережку такое же сильное впечатление, как значительное событие. Он мог смотреть на чистую тетрадь с благоговением. Он видел на белых страницах исследования, которые переворачивают науку.
…Я думал, что необыкновенная ученость дяди Мирона выпирает из него вроде иголок из головы Страшилы после того, как Великий Гудвин одарил его мудростью. Ничего подобного! Быть может, только взгляд его привлек бы внимание. Глаза этого человека смотрели из-под нависшего, в морщинах лба, из глубины, словно прикрытые тяжелым козырьком, остро и пристально. Но не тяжело. Напротив — я сразу почувствовал, что мне будет очень легко с этим человеком, несмотря на то что он во всех науках умудрен, а я во всех науках абсолютный профан, что еще раз, и не далее как полтора часа назад, было доказано моим позором на школьной сцене, в ярком свете прожектора.
Я очень много настрадался оттого, что всю жизнь стыдился любого своего незнания. Стоило человеку заговорить о не читанной мною книге, как я тушевался, грустно замолкал. Лишь совсем недавно я обнаружил, что сложное, как мне казалось, умение хорошо выглядеть в разговоре порою заключается в том, чтобы ловко наводить собеседника на темы, в которых ты можешь взять верх.
Дядя Мирон вел разговор так, чтобы верх мог взять я, его собеседник. И стоило ему посмотреть на меня — прямо в глаза, как это делал и Сережка, стоило сказать первые, ничего не значащие фразы, как я с облегчением почувствовал, что всегдашние мои оковы спадают с меня. Я был совершенно равноправным в этой комнате. Я заметил, что и думаю-то как-то интенсивнее, чем обычно, и могу сказать все, что захочу, не боясь показаться глупым, и все сказанное мною будет выслушано с вниманием.
Со стороны дяди Мирона это не было ни снисходительностью, ни даже уважением к гостю, — это была совершенно искренняя заинтересованность в моей персоне. Я, Саня Полыхин, был значителен для такого многоученого человека!
Позже я думал, что неслучайно Сережка привел меня к дяде именно в этот вечер. От тоски, вызванной провалом, не было, наверно, лучшего лекарства, чем мягкий голос дяди Мирона, внимательный и ободряющий взгляд, его видимое расположение ко мне.
И, как бы сделав свое дело, Сережка предоставил меня дяде, а сам пристроился в сторонке, на узеньком диванчике. Взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее на первой попавшейся странице и углубился в чтение. Наверно, это было привычное его место и привычное состояние в доме дяди Мирона.
Мне было легко, меня слушали, и я стал весело рассказывать о неудачном своем выступлении. Дядя Мирон расспрашивал о подробностях доклада. Я охотно начал пересказывать его и вдруг подумал, что если бы я на сцене говорил так, как говорил сейчас дяде Мирону, то прожектор наш осветил бы не позор мой, а славу, ту самую, в мечтах являвшуюся мне славу.
Но дяде Мирону не понравился и этот, весьма улучшенный вариант доклада. Вернее, не то чтобы не понравился, нет — тогда ему, вероятно, пришлось бы или показать свое недовольство (отчего я сразу бы сник), или скрывать это недовольство, притворяться, что было бы еще хуже. А он просто стал со мной спорить, как это сделал бы Сережка или любой другой из моих одноклассников, он даже петушился немного в запальчивости, он задумывался в поисках аргументов; он говорил: «Позволю себе не согласиться…»
Спор, помнится, был о Евгении Онегине. Я, следуя принятому взгляду, нападал на Онегина, обзывая его «лишним» человеком, дилетантом и недоучкой, а дядя Мирон всячески Онегина защищал, читая наизусть чуть ли не целые главы и утверждая, что таких образованных, тонко чувствующих людей, как Онегин, еще поискать надо и если Пушкин говорит о своем герое чуть насмешливо, то у него есть на это право, а нам, нынешним, лучше бы свои насмешечки попридержать.
— Ну хорошо, учен. Но ведь он так ничего и не сделал полезного в жизни, — неосторожно сказал я.
— А ты полагаешь обязательным — сделать что-то полезное? — спросил дядя Мирон, и было непонятно, то ли он говорит всерьез, то ли поддразнивает меня.
— Обязательно! — сказал я.
— Обязательно! — поддержал меня Сережка из угла.
Дядя Мирон помолчал и задал поразивший меня вопрос, обращаясь главным образом к Сережке:
— А может, прожить жизнь человеком — это и есть самое полезное, что можно сделать?
— Надо объяснить, что это значит, — сказал Сережка.
И они пустились в спор. Я плохо слушал их: я с грустью думал, что если бы рядом со мной с детства был кто-нибудь такой, как дядя Мирон; если бы кто-нибудь разбудил меня еще года три-четыре назад; если бы мне делали прививки не против тифа и скарлатины, а против дремоты и безделья; если бы кто-нибудь научил меня бесстрашию перед неведомыми науками и толстыми книгами; если бы мне хоть намекнули, что можно не довольствоваться тоненькими школьными учебничками, что можно не в ручейках, где курице по колено, плавать, а в глубоких водах; если бы…
Еще много таких «если бы» мог я насочинить, да что в них толку! Я думал, что вот я сейчас пойду домой, возьму первую попавшуюся тетрадочку, и печатными буквами напишу, медленно и зло водя пером: «Я буду гением». А с завтрашнего же дня все брошу и все начну, и буду жить как-то по-другому и смотреть на всех вот таким же пристальным взглядом человека, не имеющего свободного времени…
Но тут я очнулся и прислушался к разговору — дядя Мирон приводил слова Эйнштейна о том, что жадность по отношению ко времени порочна и глупа; он сказал это и будто подбросил дров в костер — они принялись обсуждать эти слова, спорить, правильны ли они и не более ли прав Эварист Галуа, написавший в конце своей первой и последней рукописи: «У меня нет времени» — строчку, которую Сережка предлагал избрать девизом всякого отдельного человека и человечества в целом…
— Ну, у человечества-то время есть, — сказал дядя Мирон.
— Нет! — запальчиво возразил Сережка. — У человечества так же мало времени, как и у человека.
В общем-то, выходило, что разговор не имел цели. Он доставлял наслаждение — и в этом-то и заключался его смысл. И кончился он неожиданно. Дядя Мирон, прижав Сережку в споре, победоносно заключил:
— Это тебе не «винограда три кис»! — Он обернулся ко мне и с удовольствием пояснил: — Один молодой человек, доучившись до третьего класса, отправлял межзвездную экспедицию… Куда она отправлялась, Сереженька?