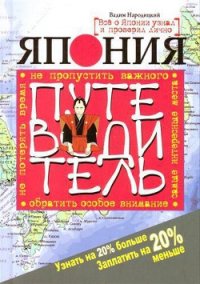Путеводитель по поэзии А.А. Фета - Ранчин Андрей Михайлович (читать книги без сокращений TXT) 📗
(«Дул север. Плакала трава…», 1880 (?))
Ценность воспоминания утверждается вопреки тому, что «О, как ничтожно всё!» в стихотворении «Страницы милые опять персты раскрыли…» (1884).
Впрочем, воспоминания о былом и о возлюбленной могут быть и спонтанными, совершенно непроизвольными, чисто ассоциативными, как в стихотворении «На кресле отвалясь, гляжу на потолок…» (1890) [151].
Разнообразна и трактовка счастья и горя. Воспоминания о счастье отрадны, они сочетаются с отказом от мыслей о печальном грядущем: «Надолго ли еще не разлучаться, / Надолго ли дышать отрадою? Как знать! / Пора за будущность заране не пугаться, / Пора о счастии учиться вспоминать» («Опавший лист дрожит от нашего движенья…», 1891).
Но одновременно вся жизнь оценивается как бессмыслица и потому отвергается («Ничтожество», 1880), отринуты даже вечная жизнь, воскрешение («Никогда», 1879) [152].
С одной стороны, прошлое и любовь поданы в причастности вечности. Невозможно разлучить былых возлюбленных:
(«Alter ego», 1878)
Однако одновременно заявлено: невозможно возвращение в прошлое: «Видно, к давно прожитому нельзя воротиться» («Кровию сердца пишу я тебе эти строки…», 1884).
Отчетливо звучит приятие жизни, ее силы и на пороге могилы:
(«Еще люблю, еще томлюсь…», 1890)
А вместе с тем герой готов принять смерть как благо («Смерти», конец 1856 или начало 1857). Смерть осмысляется философски как ценность: «Но если жизнь — базар крикливый бога, / То только смерть — его бессмертный храм» («Смерть», 1878).
С такой позицией соседствуют отвержение смерти, чувство своего над ней превосходства:
(«Смерти», 1884)
Представлена и мечта о спокойной смерти, сравниваемой с закатом:
(«Солнце садится, и ветер утихнул летучий…», 1883)
Мотив бессмысленности прожитого («Душа рвалась — кто скажет мне куда?» — стихотворение «Жизнь пронеслась без явного следа», 1884) сочетается с утверждением жизни как счастья («Прости — и всё забудь в безоблачный ты час…», 1886), с оправданием бытия и человеческих страстей и стремлений, точнее, с надеждой на их оправданность:
(«О, как волну юс я я мыслию больною…», 1891)
Истолкование стихотворения
Это стихотворение не так просто по смыслу, как может показаться на первый взгляд. М. Л. Гаспаров, интерпретируя поэтические тексты со сложно выраженными, «непрозрачными» смыслами (некоторые стихотворения О. Э. Мандельштама и Б. Л. Пастернака), использовал такой прием, — восходящий еще к античной традиции толкования словесности, — как пересказ (см.: [Гаспаров 1995, с. 190–191, 281, 297]; [Гаспаров 1996]; [Гаспаров 2000, с. 176–177 и след.]). Попробуем прибегнуть к этому приему.
Герой стихотворения слышит (или вспоминает) слова женщины и ее «полувздох». «Забывчивое слово» и «случайный полувздох», очевидно, принадлежат ей, а не ему: и потому, что пробуждающиеся в душе героя чувства вызваны именно этими словом и «полувздохом», и потому, что «забывчивое слово» и «полувздох» наделены таким оттенком значения, как ‘женскость‘; забывчивость, милая рассеянность, простительная «безответственность», «случайность» в словах — скорее черта характера женского, а не мужского, «легкое дыхание» («полувздох») также ассоциируется с поведением женщины, — как «робкое дыханье» в стихотворении «Шепот, робкое дыханье…». Почему слово «забывчивое»? Вероятно, потому что в нем заключено невольное признание героини в ее чувстве герою, — признание неосторожное (она «забылась»). Но отчего «полувздох» «случайный»? Может быть, потому же: случайный в значении ‘спонтанный’, ‘неконтролируемый’, — это еще одно признание-«проговорка». Но не исключено и другое толкование: это «полувздох» незначимый, и лишь уже влюбленный герой готов в нем видеть — пусть и понимает эту незначимость! — полупризнание.
Это слово и «полувздох» рождают в герое тоску, — очевидно, тоску по любви, тоску — жажду любви; рождают и признание в любви или, что более вероятно, готовность покориться воле любимой, быть у ее ног, встать перед ней на колени. Ведь в стихотворении упоминается не об одной ситуации покорения героя, вручения им себя героине: об этом говорят слова снова и опять. А в тексте, кажется, упоминается лишь об одной женщине, а не о разных, уравненных любовью героя: «И буду я опять у этих ног», — именно у этих. Повторяющееся «снова» и «опять» признание в любви к одной и той женщине представляется довольно странным; менее озадачивающим было бы другое прочтение: это повторяющееся вручение ей себя, покорение ей — после разлуки, может быть, после разрыва. (Строго говоря, из текста вообще не следует, что герой как-то проявляет свои чувства в отношении любимой: быть у ее ног отнюдь не означает в буквальном смысле встать перед ней на колени [153].)
Таков как будто бы смысл первой строфы. Во второй строфе вводится новый мотив — «закатной любви», выраженный посредством метафор горения и уходящего дня: «Душа дрожит, готова вспыхнуть чище, / Хотя давно угас весенний день…». Дрожит при воспоминании о любви (при пробуждении чувства к былой возлюбленной) или при реальной встрече с женщиной? Возможны оба ответа.
Последние две строки переводят смысл текста в безнадежно-трагический план бытия: «И при луне на жизненном кладбище / Страшна и ночь, и собственная тень». Развернутый метафорический пейзаж кладбища жизни, озаренного безотрадным мертвенно холодным светом луны, — знак неизбывного отчаяния: жизнь прожита, человек отчужден от самого себя (боится собственной «тени», — очевидно, себя самого в настоящем, постаревшего, непохожего на того, каким был прежде). Он страшится смерти («ночь» — прозрачная метафора небытия). Подобная семантика образа луны у Фета не единична: «Что звало жить, что силы горячило — / Далеко за горой. / Как призрак дня, ты, бледное светило, восходишь над землей» («Растут, растут причудливые тени…», 1853).
Итак, это «старческое» стихотворение: не по времени написания (хотя к моменту его издания автору было около шестидесяти четырех лет), а по тематике.
Прочтение второй строфы заставляет вернуться к первой и уточнить ее понимание. Этот текст — высказывание от лица старого, стоящего в преддверии смерти человека. И было бы неуместным трактовать «снова» и «опять» в первой строфе как указания на две и более реальные встречи с дорогой герою женщиной: одна будто бы была в прошлом, другая происходит сейчас. Нет, сейчас реально, «физически» осталось только «жизненное кладбище». В первой строфе подразумевалась подлинная встреча в прошлом и ее «отблеск» в настоящем — воспоминание. Изображение воспоминания о событии прошлого как реального с использованием грамматического настоящего времени — отличительная черта любовной лирики Фета. Пример — стихотворение «На качелях» (1890).
151
См. анализ этого стихотворения: [Бухштаб 1974, с. 118–119].
152
Истолкование стихотворения «Ничтожество» как религиозного (как опыта «метафизической поэзии»), пусть это и «одно из самых пессимистических стихотворений Фета» [Шеншина 1998, с. 71–73], не основывается на реальных доказательствах, на данных текста.
153
Преклонение колен — устойчивая условная поза лирического я, выражающая почитание женской красоты. Пример — из стихотворения «Во сне» (1890): «Перед тобой с коленопреклоненьем / Стою, пленен волшебною игрой».