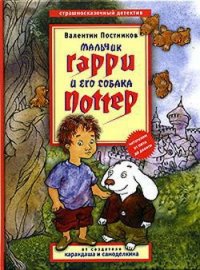Детская книга для мальчиков - Акунин Борис (бесплатные полные книги TXT) 📗
В этот миг Ластик услышал мужские голоса — не один, больше. И погуще, чем у маэстро. Наверно, кто-то вышел из церкви. Какое счастье!
Заерзав, полез из могилы ногами вперед. А то уйдут, и оставайся тут наедине с Дьяболо Дьяболини!
Но что они подумают? Что он могилы обворовывает? За такое по головке не погладят.
Ластик замер в нерешительности.
И услышал, как наверху, прямо над ним, сказали:
— Зри, Клюв, кабы немчин? Порты бархат, чулочки червен шелк. Горазд будет иль как?
Это про меня, догадался Ластик. Увидели. Это я «немчин». Как чудно? говорит. Наверно, священник.
— Горазд, всяко горазд, — ответил другой голос, гнусавый. — Волос-то черен, гли, яко велено. Давай, Митьша, подмогай.
Схватили Ластика за щиколотки, выволокли. Он лежал ничком, сомневался — говорить что-нибудь или погодить. На всякий случай пока прикидывался, будто мертвый.
— Немчин и есть, — проговорил человек со странным именем «Митьша». — Ишь, ворот кружавчиком. Нутко, ворочай.
Ластика взяли за плечи, перевернули на спину. Он подглядел через ресницы — и закоченел.
Над ним склонилась страшная косматая харя с черным клювом вместо носа, а выше полыхало багровое адское пламя.
Позавчера
Что? Где? Когда?
Позади клювастого маячил еще один, но его Ластик разглядеть не успел, потому что поскорей опять зажмурился.
Господи, что ж это такое? Где он? В какой эпохе?
И чего хотят от него эти кошмарные существа? Как странно они говорят — вроде по-русски, а вроде бы и нет.
— Посвети-кось.
Лицу стало жарко. Совсем рядом потрескивал огонь, сквозь веки просвечивало багрянцем. Тот, что велел посветить, сказал:
— Гли, ликом бел, пригож, недырляв.
В другой ситуации Ластик, возможно, почувствовал бы себя польщенным, но не сейчас.
— Росток не велик ли? — засомневался страшный Клюв. — Сказано аршин да двунадесять вершков. Ну как кошачья рожа вдругорядь забранится?
— Гожий мертвяк, влачим, — решил Митьша (похоже, он тут был главный). — Поспевать надоть. Луна на ущербе, свет скоро.
Ластика подхватили с двух сторон, положили на жесткое, прикрыли рогожей. В нос шибануло чем-то таким пахучим, что он едва не расчихался.
Подняли, понесли. Теперь бы и подглядеть, что вокруг, но накрыли Ластика на совесть, с головой — ничего не видно. Пришлось, как пишут в романах, обратиться в слух.
Слух снабжал информацией скупо.
Звук шагов. Судя по чавканью, шлепают по грязи.
Фр-р-р-р! — фыркнуло у Ластика над самой головой.
— Но, дура, балуй! Ага, лошадь.
Кинули на мягкое, пахучее, немного колкое. Сено. Поверх рогожи накрыли еще чем-то — вроде мешковиной.
— Пошла!
Скрипнули колеса, копыта зачавкали по грязи.
— Чудну, — прогнусавил Клюв. — Немчина поганого схоронили на хрестьянском погосте.
Митьша ответил:
— Без домовины сунули, яко пса. Сказывали, на Немецкой слободе мор язвенный. Подкинули втай, басурманы. Ярыжек моровых страшатся.
— Митяй, а на нас-от язва с мертвяка не кинется?
— Милостив Господь. Коту энтому смердячему про то, откель сволокли, молчок — в ворота? не попустит.
Всё это было малопонятно и очень тревожно. Ластик потихоньку приподнял край рогожи — посмотреть, что вокруг, однако почти ничего не увидел. Темнотища. Лужа блестит, большая. Какой-то забор из заостренных бревен. С той стороны громко залаяла собака.
— Митьша, рогатка! Вертать али как?
— Не робей, дери бороду выше.
Спереди крикнули, басом:
— Стой! Кто таки? Не тати ли? Куды едетя до свету?
И лязгнуло железо.
Телега остановилась.
Митьша важно ответил:
— На Ваганьков рогожи везем, на подворье князь-Василья, ближнего государева боярина.
— Василья Ивановича? Старшого Шуйского? Ну поди, поди, — разрешил бас.
Противно заскрипело дерево, телега качнулась, покатила дальше.
Копыта застучали суше и звонче — повозка ехала уже не по земле, а по деревянному настилу.
Клюв с Митьшей между собой больше не разговаривали, только время от времени вздыхали. Ластик же лежал и всё гадал: какой это у них тут год? «Боярин», «подворье». Достать бы унибук, да пошевелиться страшно. Эти люди принимают его за покойника. И пускай. А там видно будет. Холодно было, градусов десять. Если б подвигаться, Ластик, может, и согрелся бы, а так совсем закоченел.
— Вона, терем-от, — произнес гнусавый после долгого молчания. — Слава те, Исусе.
— Гли, Клюв. Не сбреши, что немчин на погост подкинутый, — напомнил Митьша.
Второй пообещал:
— Рта не растворю. Ты сам с им. Боюся я его, змеиного ока.
Постучали по деревянному — наверное, в ворота: два раза, потом еще три, негромко.
— Отворяй, Ондрей Тимофеевич! То мы, Митьша с Клювом! Добыли что велено!
Заскрежетали тяжелые створки. Мягкий, врастяжку голос спросил:
— Нут-ко, борзо, борзо. Псам я сонного зелья дах, не забрешут. Берите, за мной несите. Да сторожко вы, бесы. Аще узрит кто.
Ластика вынули из телеги, куда-то понесли.
Он и в самом деле был ни жив ни мертв — дело шло к развязке. Сейчас выяснится, за какой такой надобностью «немчина» из могилы вытащили. Главное, как с этими митьшами объясняться? Они, наверно, и языка-то нормального не понимают.
Что будет, что будет?
Под ногами несущих скрипели деревянные ступени, пахло чем-то кислым, незнакомым, и еще свечным воском, как на Новый год.
— В малу камору, — приказал Ондрей Тимофеевич — очевидно, тот самый «кот смердячий» и «змеиное око». — Дверь узка, не оброните… Годите мало, посвечу… Чего зенки вылупили? В домовину его. Глава — туда, ноги — туда.
Снова эта непонятная «домовина».
Ластика положили на жесткое, по бокам вроде как бортики, высокие. Глаз он не открывал — ни-ни. Понимал, что сейчас его снова станут рассматривать.
Так оно, похоже, и было.
Потрескивала свеча, Митыпа с Клювом переминались с ноги на ногу. «Змеиное око» молчал.
— Горазд отрок, вельми горазд, — не выдержал Митына. — Зри, Ондрей Тимофеевич: и волос черен, и личико бело, а леп-то, леп, яко ангел Божий.
— Пошто немчин? — спросил боярин. — Откелева? Ты ответь, безносый. Созоровали, душу живую порешили? Заказывал ведь того не делати!
Было слышно, как Клюв шумно сглотнул.
— Дак… На улице он… На улице валялся. Вот те крест святой!
— Ладно. Не мое то дело. Никто не сведал?
— Никто. Хошь на святу икону побожусь! — пришел на помощь Клюву Митьша.
Воспользовавшись этой дискуссией, Ластик позволил себе приоткрыть один глаз.
Низкий дощатый потолок, бревенчатые стены.
Комнатка, совсем маленькая. В стене напротив светится прямоугольник — дверца. По краям, вдоль стен, лавки. И сам он тоже лежит на лавке, в каком-то ящике.
Мамочки! Это же гроб! Так вот что такое «домовина»…
Осторожно покосившись в сторону, Ластик рассмотрел тех троих.
Страшные, кого он мельком видел на кладбище, были одеты в рванье, на ногах залепленные грязью лапти. Митьша невысокий, всё время кланяется. Лица не разглядеть — стоит спиной. Второй мужик долговяз, костляв, весь зарос черными волосами, а на носу у него повязка, из-за чего тогда, при свете факела, и показалось, будто это клюв. Отсюда же, надо понимать, и прозвище.
Но главный интерес сейчас, конечно, представлял собой третий — ясно было, что судьба Ластика будет зависеть именно от этого человека.
В руке он держал канделябр с тремя горящими свечами, близко к лицу, поэтому видно его было хорошо.

Ох и не понравился Ластику смердячий кот Ондрей Тимофеевич!
Был он не то чтобы сутул, а будто присжат, словно пружина, в любой миг готовая распрямиться. Не поймешь какого возраста — на гладком лице торчали перышками два жидких уса. С губ не сходила ласковая улыбка, но круглые глаза смотрели холодно, и в самом деле, по-кошачьи. Голос тоже был кошачий — мурлыкающий, негромкий.