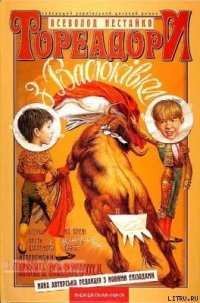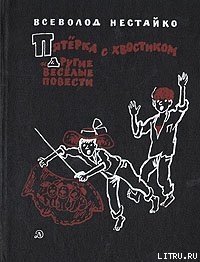Загадка старого клоуна (с илл.) - Нестайко Всеволод Зиновьевич (хороший книги онлайн бесплатно TXT) 📗
– В Софии звонят и в Михайловском Златоверхом, – сказал Чак и кивнул в сторону фуникулёра, где, огороженный такой же стеной, как и София, сверкал золочёными куполами собор и возвышалась трехъярусная колокольня с голубым куполом, по которому были разбросаны золотые звёзды. – Давай спустимся на Подол, а оттуда уже – трамваем на Куренёвку.
За Присутственными местами напротив Реального училища стоял памятник, окружённый деревьями.
– Памятник княгине Ольге, – рассказывал Чак, – работа Ивана Петровича Кавалеридзе – известного киевского скульптора, кинорежиссёра и драматурга, который, кстати, учился в той же седьмой гимназии, что и я, только на несколько лет раньше.
На высоком постаменте стояла княгиня, справа от неё, на возвышении, как объяснил Чак, сидели первые славянские просветители Кирилл и Мефодий (тот, который держит рукопись-азбуку), а на возвышении слева – Андрей Первозванный с посохом, тот самый библейский апостол, первый из двенадцати, о котором упоминает киевский летописец Нестор в своей «Повести временных лет». Ему якобы две тысячи лет назад вздумалось попутешествовать из Херсонеса, или, как его ещё называли, Корсуня (это где теперь Севастополь), в Рим, и направился он почему-то вверх по Днепру (географию не знал, что ли) и на месте, где ныне стоит Киев, вышел специально на берег, ткнул посохом в землю и сказал ученикам, которые были с ним:
– Ребята! Вот, чтобы вы знали, будет здесь бо-ольшой город! Честное слово! Я вам говорю!
И поехал дальше через Новгород в Рим.
А прошло ещё лет пятьсот, и Кий, Щек, Хорив и сестрица их Лыбедь, хотя не были христианами и об апостоле Андрее Первозванном и слыхом не слыхивали, действительно основали здесь город и назвали его в честь старшего брата – Киев. Так пишет Нестор.
Мимо Михайловского Златоверхого монастыря, тарахтя по ухабистой дороге, ехала крестьянская подвода. С одной стороны, свесив ноги, глядя прямо перед собой, сидели рядочком три откормленных монаха с напряжёнными лицами. От тряски у них всё дрожало и подпрыгивало: и бороды, и щёки, и красные носы, и кресты на груди, и запылённые сапоги, выглядывающие из-под длинных чёрных подрясников.
Пройдя мимо Михайловского монастыря, мы подошли к фуникулёру. Я прочитал вывеску на верхнем павильоне.

Чак опустил монетку – турникет щёлкнул, пропуская его. Я невесомо пролетел следом. Зашли мы в вагончик и поехали вниз.
В окошко «механического подъёма» был виден Днепр, по которому пароходик с длинной трубой, шлёпая колёсами по воде, тянул баржу.
Труханов остров с хатками, улицами рабочей слободки был какой-то необычный. И дали заднепровские, без Воскресенских и Русановских массивов с белыми домами, без заводских труб, ровные, лесисто-зелёные, тоже были необычными.
Только панорама Подола со множеством крыш как будто бы знакома, хотя, конечно, дома были ниже и больше торчало крестов.
«Механический подъём» спустил нас не в самый низ, как это делается сейчас, а до середины горы.
Оттуда мы уже пешком дошли до суетливого, галдящего Подола. Здесь стоял невообразимый шум. Скрипели телеги, понукали лошадей извозчики, ржали кони, и сотни голосов – гала-галала-галала – кричали, перекликались, торговались, смеялись и ругались…
Куда там даже тому Евбазу!
Весь Подол был запружен телегами, заставлен бесконечными лавками и ларьками, над которыми были натянуты грязные брезентовые тенты и торчали чёрные зонтики.
Посредине рыночной площади возвышалось каменное строение с колоннами и статуей апостола Андрея наверху.
Под этим строением (или ротондой, как его называют архитекторы) был фонтан, где какой-то дядечка сражался со львом.
– Знаменитый подольский фонтан «Самсон», или «Фелициал», – шепнул мне Чак тихо, чтобы не привлекать внимания. – Восемнадцатый век. Его автор – известный киевский архитектор Григорович-Барский, который и родился на Подоле. Этот фонтан недавно был воссоздан специально к 1500-летию Киева.
Около фонтана толпились, толкаясь, люди, в основном увечные, брызгая на себя водой, которая, видимо, считалась целебной.
Мы сели на маленький дребезжащий трамвайчик, и повёз он нас через весь Подол на Куренёвку, мимо грязных немощёных подольских улочек с разбитыми ухабистыми мостовыми, мимо деревянных, крытых железом скособоченных домиков с крылечками под навесами, со ставнями, с белыми вышитыми занавесками на окнах.
За Кирилловской церковью запестрели сады. Началась Куренёвка.
Мы сошли с трамвая и зашагали по тихим улочкам мимо знаменитых куренёвских садов и огородов, которые снабжали перекупщиков всех киевских базаров фруктами и овощами.
Адреса деда Хихини мы не знали. Надо было расспрашивать.
Правда, тогдашняя Куренёвка не отличалась от обычного села. Здесь все друг друга хорошо знали. И первая же встречная молодица – у неё была как будто аккуратно выпиленная треугольная щербинка в переднем зубе, – к которой обратился Чак, сразу указала нам дорогу.
Хихиня жил на поросшем дерезой холме над оврагом в убогой, крытой камышом хатке-курене, может, в одном из последних казацких куреней, которые дали когда-то название Куренёвке.
Прямо возле хаты росла старая высокая раскидистая груша, которая уже почти не родила. Только одна ветка была густо усеяна мелкими жёлтенькими «лимонками».
Больше деревьев во дворе не было. За хатой – небольшой огород. Зато весь двор засажен цветами. И мальвы, и астры, и флоксы, и чернобривцы… Чего только не росло, невзирая на позднюю осеннюю пору.
Молодица, которой было с нами по дороге, пока шли, успела рассказать Чаку, что дед Хихиня – чудак-одиночка, живёт один, бедствует, перебивается с хлеба на воду, но всегда весел, всегда поёт, выращивает цветы и раздает людям. Особенно если видит, что кто-то грустит. Люди считают его ненормальным, но любят. Зовут его Федотом, но все на Куренёвке называют его Хихиней (потому что он всё время хихикает).
Показав курень Хихини, молодица попрощалась и пошла дальше по улице, даже не спросив, зачем гимназисту вдруг понадобился старый куренёвский чудак.
Мы ещё не знали, что будем делать. Точного плана не было. Да и в самом деле – не придёшь же просто так и не спросишь: «А скажите-ка, дедушка, пожалуйста, где растет веселящее зелье, смех-трава, которая делает людей весёлыми и остроумными, способными радостно смеяться и всех веселить».
Если бы можно было – давно б уже люди знали тайну этого веселящего зелья.
Сначала надо хоть просто взглянуть на старика, который якобы знает эту странную тайну. Только дома ли он сейчас? Может, пошёл бродить по лесам, по оврагам, по лугам безо всякой цели, просто так, меряя землю шагами.
Во дворе около хаты никого не видно. И не слышно. Безлюдье.
И вдруг…
– Будьте осторожны! – тихонько (хоть никто и не мог меня услышать) сообщил я Чаку. – Там кто-то крадется!
Чак присел за кустом дерезы.
Дело в том, что я взлетел немного вверх, чтобы осмотреться, и увидел, как от оврага, нагнувшись и воровато оглядываясь, к куреню подкрадывается какой-то господинчик в котелке. На деда Хихиню он был не похож – молодой, аккуратненький, хорошо одетый.
Так же воровато оглядываясь, господинчик зашёл во двор, остановился и замер, прислушиваясь: принял стойку, как охотничий пёс, даже одну ногу задрал. Потом на цыпочках подошёл к двери. Дверь была не заперта. Она тихонько скрипнула, когда господинчик, приотворив её, вошёл внутрь. Его действия были подозрительными. «Неужели шпик?» – подумал я.
Никогда не видел я живых полицейских шпиков.
Пользуясь своей невидимостью, я проник за господинчиком в хату.
Нервничая, он суетливо рыскал по хате, что-то искал: заглядывал во все углы, в закут, в подпол; дрожащими руками открыл незапертый сундук, старый, почерневший, в котором лежало какое-то тряпьё, долго рылся в этом хламе.
Образов в хате не было. Вместо них в углу висела небольшая картина – казак Мамай, скрестив ноги, играет на кобзе, сидя под дубом. Рядом стоит конь.