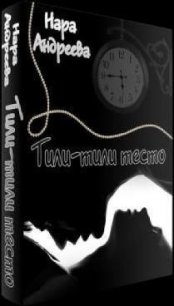Год Людоеда. Время стрелять - Кожевников Пётр Валерьевич (книга жизни TXT) 📗
— Да я вижу, что вы, девчата, уже неслабо шибанули! — отстранился от подруг педиатр. — А где ваш командир?
— А тетя Тонна чего-то совсем раскисла, — бессмысленно улыбнулась Жанна. — Она там как бы осталась кровососов вручную добивать!
— Федор Данилович, а у вас случайно гривен десяти не найдется? — по-поросячьи растянула рот Зоя. — А то мы решили завтра к ребяткам в больницу сходить, а у нас даже на транспорт не хватает! Такая беда!
— Если я вас еще хоть раз в больнице увижу, то строго накажу, ясно? — Борона свел свои густые брови. — А сейчас — брысь отсюда!
— Ну ладно, ладно, не серчайте! — виновато пробормотала Махлаткина. — Зося, хватит тебе трындеть. Видишь, люди работают, а ты им только мешаешь!
— А сама-то тоже хороша! — возмутилась Бросова. — И вечно я у них во всем виновата, даже в том, что их мать родная родилась!
Женщины взялись под руки и понуро заковыляли в темень подворотни. Федор сел в автобус, чтобы вывезти отсюда своего мецената, спасшего сегодня нетрадиционным образом сотни людских жизней.
— Вот в таком странном виде оперативники застали директора приюта «Ангелок» Ангелину Германовну Шмель, — комментировала Лолита работу оператора, который фиксировал спеленутую скотчем и обремененную взрывным устройством Ангелину, дрожащую от холода и страха в салоне собственных «Жигулей». — По информации правоохранительных органов, Шмель причастна к группировке Руслана Драева, который был сегодня застрелен неизвестными возле здания театра «Серпантин». Подробный репортаж о развернувшейся сегодня драме в театре «Серпантин» смотрите в ночном выпуске нашей новой программы «Трупы Петербурга».
Глава 40
ПТИЧКИ НА ОБОЯХ
— Мать, а ты чего с отцом перестала жить? — решился Ваня на вопрос, который давно хотел задать Антонине. Он уже жалел о том, что завалился в квартиру Нетаковых, чтобы посмотреть, нет ли там сейчас его матери или кого-нибудь из ее компании, кто мог бы сказать, где она, что с ней, жива ли она вообще, поскольку мать тоже была на заводе во время всех этих пожаров и взрывов, да и вообще она всегда лезет куда не надо! — Денег не давал?
— Денег?! Ну да, если бы в деньгах было дело да если бы в деньгах было счастье?! — Антонина положила руку сыну на плечо и мягко его погладила. Сейчас они сидели на пахнущем сыростью топчане, призрачно освещенные огарком свечи, а иногда всполохами рекламы казино, которая пылала на другой стороне улицы. — Сынок, ты меня своим вопросом серьезно озадачил! А как же, скажи мне на милость, можно жить с человеком, который тебя специально пугает, чтобы только свое мужицкое удовольствие лишний раз испытать?
— В каком смысле? — юноша вспоминал, когда в последний раз мать его как-нибудь ласкала, и затруднялся с ответом. — Он тебя бил, да?
— Ну, это, я тебе честно замечу, дело объективно не столь простое, а для такой, прости меня, мрази, как твой папаня, и вообще недоступное! — Ремнева переместила руку сыну на спину и продолжала его поглаживать. — Нет, он, иуда, другие системы для моего шокирования разрабатывал: то сам ляжет на пол, а ноги в дверях вывалит. Я иду домой, на наш этаж подымаюсь, вся картохой да туалетной бумагой обвешанная. Мама мия! Никак наш отец-кормилец и взаправду окочурился? Я мигом к нему, а он на меня навалится и давай ломать, как привидение, а сам в ухо-то мое все слюнит: «Испугалась, дура, да взаправду, что ли, так испугалась, что штаны обмочила, не обманываешь?» И вдогонку похабства всякие посылает, что я не только тебе, а и попу на смертном одре не продублирую! Вот таков он, твой папуля!
— Ну ты же еще, это, ведь жила же там с другими, да? Ну вот хоть тот же Парамон, которого завалили? Да и раньше, я же помню! — Ремнев выпрямил спину и привалился к сырой стене в надежде, что мать уберет руку, но она, наоборот, словно воспользовалась его новым положением и, тяжело вздохнув, переместила руку на его колени. — Ты свою-то жизнь, ма, значит, как-то решала, да?
— А ты что, меня, сынок, никак за что-то осуждать вздумал? Под сыновний трибунал меня, что ли, подводишь? Я тебе этого, мой милый, не советую! — женщина угрожающе засипела, но продолжала свое путешествие по сыновьим ногам. — Родителей корить — это, по всем раскладам, последнее дело!
— А батю что, можно корить? — не унимался Ваня и резко встал с топчана. — Вы же меня, кажись, вдвоем делали?
— Тут ты все сам решай, уже, чай, не маленький! Вон какое себе шутило-то отрастил! Прямо на ВДНХ не стыдно представить! — и Ремнева с неожиданной для ее мощной комплекции мягкостью прихватила сына за дугу, обозначившуюся под его брюками. — Ого, да у тебя, сынуля, еще тот отбойник скомплектован! По этой части ты весь в папашу!
Ваня стоял возле стены, и ему было некуда отступать, а резко отторгнуть материнскую руку ему почему-то не пришло в голову, он медлил с освобождением из неплотно сомкнутых женских пальцев, и в этой своей медлительности юноша ощущал преддверие чего-то, возможно, более для него неожиданного и очень мрачного, того, чего он еще мог избежать, мог, но… Еще он медлил и потому, что думал: мать с ним так неловко пошутила и сама его сейчас отпустит. К тому же в его голове промелькнула мысль о том, что она, конечно, совершенно пьяна, одинокая и даже, наверное, не совсем нормальная.
Между тем Антонина продолжала свои старания, и Ваня, несмотря на то что отдавал все свои силы Софье, которая, казалось, каждый раз стремилась навсегда его опустошить и осушить, он вдруг поймал себя на том, что ему, в общем-то, становится приятно и предмет, который уже усердно обследовали материнские пальцы, отзывается на их теплые пожатия. Юноша почувствовал невероятный прилив крови к своему лицу — это были стыд и даже какой-то завораживающий страх. Уловив свое утяжеленное дыхание, Ваня все-таки попытался избавиться от запретной материнской ласки.
— Ма, ну что ты на самом деле, а? — юноша опустил свою руку поверх материнской и начал ее отводить в сторону. — Ну не надо, ладно? Перестань! Давай это кончи…
— Да чего ты, дурачок, мамочки родной испугался, что ли? Ну и глупый же ты у меня, щегленок! — сипло засмеялась Ремнева, расстегивая сыну брюки и пересаживаясь на скрипучую табуретку. — Да это же я тебя родила, а не твоя ментовская генеральша! Могла бы ведь и не родить! Плавал бы ты тогда, сынок, с другими выкидышами в канализации! Я ведь у тебя каждое твое местечко наизусть помню! Ну что же ты, мой мальчик, вырос таким неблагодарным и жадным? Да не жадничай ты, Ванька, убери свои ручонки! Ну не мешай же! Мать я тебе, мать, никто меня за это не осудит! Мой ты сын, мой! Другим бабам с твоим хером можно играться, а мне нет?! — женщина не только не уступала Ване свою добычу, но и потянула левой рукой его штаны вниз, и он чувствовал, как они постепенно сползают, ее же правая рука вдруг ослабила хватку, штаны пали, и рука напрямую коснулась его возбужденного члена. — Да погоди ты, жеребец, отринь руки, отвлекись! Я же вижу, что ты заводишься, котик, вон как он у тебя поднялся, прямо как флаг победы! Ух ты, какая у тебя штуковина! А чего на родную мать и не подняться, чем я других-то баб хуже, вот чего покамест в толк не возьму! А бенцалы-то какие налитые и темные, как каштаны, ну точно как у твоего батьки, мудака голимого! Он хоть и ростом невелик, а тоже, как говорится, весь в корень пошел! Может, оттого его и Корнеем назвали?
И тут случилось самое ужасное событие в Ваниной жизни, которое он, кажется, еще мог предотвратить, то есть и не предотвратить уже, поскольку оно совершилось, но как-то оборвать, наверное, даже любым, пусть даже и самым грубым путем, но…
Ваня смотрел на то, как его мать отбрасывает голову, на ее багровое лицо, зияющий вишневой темнотой рот, который вновь и вновь готовился поглотить его плоть, и не верил своим глазам. Ремнев всмотрелся в материнскую голову, периодически освещаемую рекламой, и обнаружил существование на ней своего особого мира: редкие сальные волосы, сквозь которые просвечивают синеватая кожа и белеющие, словно какие-то личинки, колонии рассыпанной перхоти. «Деревья, глинистая почва… Нет, трава, ил, — мелькали в голове юноши, скорее всего, неуместные сейчас метафоры, заплетаемые в одну словесную косу с повторяющимся: — Мама, это ты?»