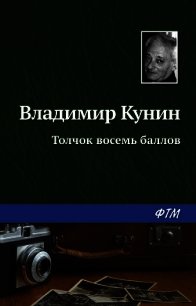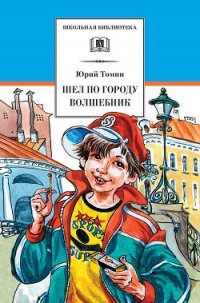Таящийся ужас 3 - Гриньков Владимир Васильевич (читать книги без регистрации .TXT, .FB2) 📗
— Увы, не имел чести быть знакомым с вашим братом. Он живет далеко от вас?
— Километров двести, может, чуть больше. У них там курорт рядом, а сам он гончар. Делает разнообразные горшки, вазы, а потом выставляет их на рынок. И это творение, которое так вам понравилось, тоже его работа.
— Неужели? Просто поразительно!
— Да, и в самом деле подлинный образчик искусства. Как можно такое продавать, не понимаю. Впрочем, Каспар настолько преуспел в этом деле и достиг такого совершенства, что оно как бы стало его обычным, повседневным ремеслом. А начал он около года назад с крохотной лавчонки. Там он и торговал своими изделиями. Но они оказались столь удачными, что спрос постоянно рос. Вскоре даже пришлось построить новые, более просторные печи для обжига готовых изделий. О, теперь он отсылает свои творения в магазины самых известных городов страны.
— Похоже, дел у него невпроворот.
— Да, трудится день-деньской. Потому он и поторопился назад домой — масса срочной работы. У него подлинный дар художника.
— Как жаль, что я так мало понимаю в гончарном деле. Надо будет что-нибудь почитать, что ли.
— Убеждена, что вы почерпнете для себя массу интересного. Например, знаете ли вы, что каждое изделие обжигают, при очень высокой температуре? Вы никогда не задавались вопросом, святой отец, сколько градусов требуется для изготовления хотя бы вот этого блюда для печенья?
— Блюда для печенья?
— Да. Кстати, именно так гончары называют первичный продукт после обжига, но еще до того, как на него наносится глазурь.
— Понятия не имею.
— Около 1270 градусов. По Цельсию! Понимаете?
— Господи помилуй!
— Видите, — с легким оттенком юмора проговорила миссис Дефорест, — какое жесткое испытание пришлось перенести моей вазе. Но скажите, разве она не достойна потраченного труда? Для цветов она, пожалуй, недостаточно высока, но не беда, для меня это — предмет особой радости.
Упоминание о столь чудовищной температуре напомнило отцу Калингу повествования о чистилище.
— Ну что ж, мне пора, — проговорил он, вставая. — Не знаю, как и выразить свое восхищение вашей стойкостью в столь горестный час.
— Уверена, святой отец, что уж обо мне-то вам следует беспокоиться меньше всего. Ничего страшного не случилось, и я перенесу это потрясение.
Она проводила его до дверей, и они стали прощаться.
— Очень рада, что вы нашли время заглянуть ко мне, святой отец, — проговорила миссис Дефорест. — Пожалуйста, не забывайте меня.
Женщина проследила за тем, как преподобный Калинг прошел к машине, а затем вернулась в гостиную. Рука раздраженно дернулась к лежавшему на столе свертку. Нет, Каспар просто невыносим! Конечно, экономия — прекрасная вещь, но нельзя же быть таким скупердяем. Надо же! Бумагу отыскал самую что ни на есть тонкую, ломкую какую-то, а веревка и вовсе чуть толще нитки. Вдобавок ко всему отправил посылку третьим классом — только бы сберечь несколько лишних центов. Ладно, предположим, что на почте не так уж часто тайком вскрывают посылки, но ведь бывает же и такое. Вдруг им захотелось бы покопаться именно в этой! Можно представить, как бы она тогда себя почувствовала, если не сказать более.
Женщина сняла с камина свою прелестную вазу и опустила ее на столик рядом со свертком. Сладострастное предчувствие грядущего милого общения помогло ей отбросить остатки былой досады. Она распаковала посылку и принялась осторожно пересыпать содержимое свертка в вазу.
Лоуренс Блок
Словно и вправду рехнулся
Сан-Энтони оказался отнюдь не плохим местечком. Разумеется, там тоже решетки и нельзя когда хочешь приходить и уходить, но ведь могло быть гораздо хуже. Я всегда полагал, что сумасшедшие дома это нечто дикое и мрачное: надуманное псевдолечение, являющее собой жалкую пародию на настоящую медицину, санитары-садисты, постройки средневекового вида, ну, и все такое прочее. На деле же все оказалось иначе.
У меня была своя комната с видом на больничный сад, в котором произрастали вязы и масса всяких диковинных кустов, названий которых я и знать-то не знаю. Оставаясь один, я частенько наблюдал за тем, как садовник взад-вперед передвигается по широкой лужайке, подстригая траву большой механической косилкой. Но, разумеется, я отнюдь не все время проводил у себя в комнате или камере, если вам так больше нравится ее называть. Была у нас там и социальная — жизнь — болтливые посиделки с другими пациентами, бесконечные турниры в пинг-понг, ну, и все такое.
Основное внимание в Сан-Энтони, естественно, уделялось трудотерапии. Я обрабатывал какие-то дурацкие маленькие керамические плитки, плел корзины и делал чапельники для сковородок. Наверное, все это действительно имело какой-то смысл. Простая идея максимального сосредоточения внимания на чем-то обыденном и банальном должна в подобных ситуациях оказывать терапевтическое воздействие — возможно, типа того, как влияют всякие там хобби на психику здоровых людей.
Вы, наверное, задаетесь вопросом, как я оказался в Сан-Энтони?
Все очень просто. Как-то раз, солнечным сентябрьским днем, я вышел из своего офиса и направился в банк, где по чеку получил наличными две тысячи долларов. Я попросил, и мне выдали двести новеньких хрустящих десятидолларовых банкнот. Выйдя из банка, я бесцельно прошагал пару кварталов, пока не очутился на довольно-таки шумной улице Эвклида, точнее, на пересечении ее с Сосновой, хотя, думаю, это не так уж и важно.
Там я остановился и стал торговать банкнотами: останавливал прохожих и предлагал им купить деньги по цене пятьдесят центов за бумажку или обменивал на сигареты, а то и вовсе отдавал за так — в обмен, как говорится, на доброе слово. Припоминаю, что одному мужчине я заплатил пятнадцать долларов за галстук, а тот возьми и окажись весь в пятнах. Очень многие отказывались иметь со мной дело, поскольку, я думаю, полагали, что я торгую фальшивыми деньгами.
Не прошло и получаса, как меня арестовали. Полицейские тоже подумали, что деньги фальшивые, хотя на самом деле это было, разумеется, не так. Когда меня вели к патрульной машине, я покатывался со смеху и подбрасывал десятидолларовые бумажки в воздух. Комично было наблюдать, как полицейские бегали за новыми и чистыми банкнотами, а потому я долго и громко смеялся.
В участке я тупо оглядывался вокруг и ни с кем не хотел разговаривать. Вскоре появилась Мэри, которая приволокла на буксире врача и адвоката. Она долго плакала и сморкалась в свой изящный полотняный платочек, и я сразу подметил, что ей очень понравилась ее новая роль. А что, действительно восхитительно придумано: сыграть роль жертвы. Любящая жена человека, у которого на глазах у всех крыша поехала. Отыграла она ее на полную катушку.
Едва завидев Мэри, я тут же вышел из своей летаргии, принялся истерично колотиться о решетку камеры и обзывать ее самыми что ни на есть препохабными словами, которые только мог припомнить. Она снова ударилась в слезы, и ее в конце концов увели. Кто-то сделал мне укол — успокоительное, наверное, — после чего я уснул.
В тот раз меня не отправили в Сан-Энтони. Я провел в тюрьме три дня — скорее всего под тщательным наблюдением, — а потом стал постепенно приходить в себя. Ко мне возвращалось чувство реальности. Случившееся основательно сбило меня с толку, я беспрестанно спрашивал охранников, где нахожусь и почему. Память мне в этом была не особенно хорошей помощницей: я действительно припоминал отдельные разрозненные фрагменты случившегося, однако все это не имело для меня решительно никакого значения.
Потом у меня было несколько встреч с тюремным психиатром. Я рассказал ему, как много мне приходится работать и в каком диком напряжении я постоянно нахожусь. Это, надо сказать, произвело на него сильное впечатление, в результате чего моя «торговля» десятидолларовыми банкнотами была признана естественным последствием производственного стресса. Что-то вроде символического отторжения плодов опостылевшего труда. Я попросту вступил в схватку с перенапряжением по службе, пытаясь освободиться от тех материальных ценностей, которые она мне приносила.