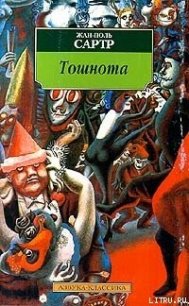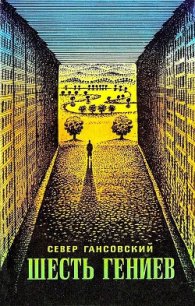Черный вечер (сборник) - Моррелл Дэвид (версия книг TXT) 📗
— Дружище, я о тебе беспокоился!
— Не включай...
Но я не послушался и от того, что увидел, чуть не подавился рвотой.
Уэс сидел, развалившись на стуле. Вернее, не развалившись, а растекшись. Тело разлагалось, щеки прогнили до зубов. На полу — зеленая лужица, в комнате пахнет гнилью.
— Лучше бы я пошел на гонки, верно? — сквозь зияющую дыру в горле просвистел Уэс.
— Боже, почему ты мне не сообщил! — зарыдал я.
— Сделай одолжение, выключи свет. Думаю, я заслужил покой.
Мне столько нужно ему было сказать, но слова будто застряли в горле. Сердце разрывалось от жалости.
— Думаю, об уговоре лучше забыть... Нашей команде конец...
— Могу я чем-нибудь помочь? Только скажи, все сделаю!
— Оставь меня...
— Уэс, дружище...
— Уходи, жалость мне не нужна!
— Ну зачем ты так? Я же твой друг!
— Именно поэтому ты выполнишь мою просьбу и... — зияющее горло снова засвистело, — уйдешь.
Я стоял в темноте, прислушиваясь к жутким хлюпающим звукам.
— Тебе нужен доктор!
— Мне уже ни один доктор не поможет. Пожалуйста...
— Что?
— Уходи, тебя никто не приглашал!
Минуту я не знал, на что решиться.
— Хорошо.
— Люблю тебя, братан.
— Я тоже тебя люблю!
На дрожащих ногах я вышел на улицу, и у машины меня вырвало. Казалось, запах гнили навсегда поселился в одежде, коже и волосах.
На следующий день мы поехали к нему вместе с Джилл. Он исчез, я так и не узнал, куда.
А вот как закончилась его карьера. Таланта больше нет, одна решимость осталась.
Видите ли, спецэффекты стоят дорого, ради экономии студии готовы на что угодно.
«Нашей команде конец», — сказал Уэс, и позднее я понял, что он имел в виду. В фильме «Зомби из ада» он снялся без меня и в титрах упомянут не был.
Помните Белу Лугоши в его последних картинах, где режиссеры пытались сыграть на старом успехе «Дракулы»?
Так вот, по сравнению с Уэсом старик Бела просто красавец.
«Зомби из ада» имел шумный успех, мы с Джилл едва достали билеты и весь фильм, не стесняясь, глотали слезы.
Чертов город! Все только о деньгах и думают.
На экране под оглушительный хохот зрителей Уэс врезался в красавицу-блондинку.
И его полуистлевшая челюсть отваливалась.
Оранжевый для боли, синий для безумия
«Orange is for Anguish, Blue is for Insanity» 1988
В 1986-м, через год после публикации предыдущего рассказа, я принял решение, которое удивило всех и больше всего — самого меня. С 1970-го я преподавал литературу в университете Айовы и прошел путь от помощника преподавателя до профессора. Преподавать мне страшно нравилось, ведь общаться с талантливой молодежью — одно удовольствие. Целых шестнадцать лет я не представлял свою жизнь без университета, но однажды утром проснулся и понял, что больше не могу совмещать две профессии. Сколько себя помню, работал без выходных и праздников. Чтобы закончить рассказ, приходилось вставать чуть свет и засиживаться за полночь. Преподавать здорово, писать еще лучше, но сколько можно жечь свечку с обоих концов? Решение принято, и осенью 1986 года я ушел из университета.
В моей жизни образовалась огромная зияющая дыра. Я же сразу после школы попал в колледж, так что, можно сказать, вырос в университете, сначала — Пенсильвании, потом — Айовы. Здорово, что можно целый день писать, но я так скучал по коллегам и студентам, что начал подумывать о возвращении. А через несколько месяцев работа отошла на второй план.
В январе 1987-го у сына нашли лейкемию, и на целых шесть месяцев в нашем доме поселился кошмар. Бедный мальчик так страдал, а мы с женой сходили с ума оттого, что не в силах помочь.
Нет, только не Мэтью!.. Дежуря у него в реанимации, я совершенно случайно взял в руки книгу Стивена Кинга. Стивен — друг нашей семьи, поддерживал Мэта, присылал ему кассеты и записки. Удивительно, но придуманный ужас отвлекал от реального. Теперь я понял своих читателей, которые пишут, что мои книги помогают пережить жизненные катаклизмы: смерти близких, разводы, потерю работы, пожары, наводнения. Прав был Джон Барт, сказав: «Реальность как музей: можно изредка навещать, а постоянно жить — невозможно».
Мэт был уже совсем плох, когда Дуглас Уинтер предложил мне написать рассказ для антологии «Первородный грех». Сначала я отказался: какие рассказы, когда сын умирает! Однако Дуг был настойчив, и в перерывах между дежурствами я написал рассказ, сюжет которого навеян картинами Ван Гога. История о безумии, в час тяжелых испытаний она помогла мне сохранить здравый ум и твердый рассудок.
Ван Дорн — художник уникальный. В конце девятнадцатого века в Париже его работы вызвали скандал. Пренебрегая существующими канонами, совмещая несовместимое, он заложил собственное направление в искусстве. Отличительный принцип — главенство цвета, текстуры и композиции. Руководствуясь им, Ван Дорн писал портреты и пейзажи, необычные в первую очередь тем, что замысел уходил на второй план, уступая место технике. Яркие цвета, нервные завитушки и пятна, иногда чуть не в сантиметр толщиной, выступающие с поверхности картины, подобно барельефу, занимали воображение человека настолько, что сюжет картины казался лишь поводом для ее написания. Словом, главное не что, а как.
Импрессионизм, основное течение конца девятнадцатого века, использовал присущую человеческому глазу особенность воспринимать находящиеся на периферии предметы как расплывчатые пятна. Ван Дорн пошел дальше: у него периферические предметы сливались, образуя нечто единое, яркое, многослойное. Ветви деревьев жадными щупальцами тянулись в небо, трава — к деревьям, солнечные лучи — к деревьям и траве. Разноцветные щупальца переплетались в плотный пестрый клубок. Ван Дорн обращался не к оптическим иллюзиям, а к реальности в собственной оригинальной трактовке. «Дерево есть трава, — утверждала его техника, — небо есть трава и дерево. Все взаимосвязано и едино».
В конце девятнадцатого века подобное мировоззрение понимания не нашло, а картины продавались за бесценок. Ван Дорн пережил нервный срыв. Вернее, пережило тело, а душа погибла. Окончательно сломленный, он дошел до самоистязаний. Близкие друзья, Гоген и Сезанн, в отвращении от него отшатнулись. Умер Ван Дорн в нищете и безвестности, и лишь через тридцать лет, в 1920 году, людям открылась наполняющая его полотна гениальность. В 1940-м о его жизни был написал ставший бестселлером роман, а в 1950-м о нем сняли фильм.
На сегодняшний день даже наименее популярные из его картин оцениваются в десятки миллионов долларов.
Ах, искусство, непостоянное искусство...
Все началось с Майерса и его встречи с профессором Стивесантом.
— Он согласился... Правда, без особой охоты.
— Удивительно, что вообще не отказал, — покачал головой я. — Стивесант ненавидит постимпрессионизм и Ван Дорна в особенности. Почему ты не обратился к кому-нибудь попроще, например к старине Брадфорду?
— Потому что его мнение совершенно не котируется. Зачем писать докторскую, если она не будет опубликована? А чтобы привлечь издателя, нужен академический руководитель, пользующийся уважением и авторитетом. Кроме того, если я смогу убедить Стивесанта, значит, остальных и подавно.
— Убедить в чем?
— Стивесант задал тот же вопрос, — ухмыльнулся Майерс.
Эта сцена до сих пор стоит у меня перед глазами: долговязое тело Майерса выпрямилось, словно тугая пружина, вьющиеся рыжие волосы упали на лицо.
— Стивесант сказал, что, даже превозмогая глубокую неприязнь к Ван Дорну — как выражается, старый козел! — он не может понять, зачем я решил потратить целый год на художника, о творчестве которого столько написано? Почему бы не заняться неоэкспрессионизмом и не открыть новое имя? Он тут же порекомендовал юное дарование, наверняка из числа своих любимчиков.