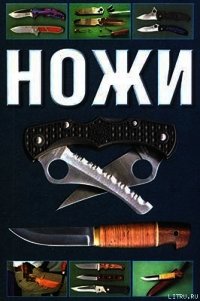Метатель ножей - Миллхаузер Стивен (книга читать онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Сараби, изобретателя классического парка, преследовало темное стремление преодолеть все границы разумного и выйти к более опасным и пугающим открытиям. Он явился в конце эры первых великих американских парков и довел технику и фантазию до пределов, не превзойденных в его время, став примером неустанного поиска, которому нет равных в истории массовых развлечений.
В альбоме фотографий под названием «Старый Нью-Йорк», опубликованном «Арк Букс» в 1957 году и давно распроданном, имеются четырнадцать видов парка «Эдем»: девять фотографий верхнего уровня, включая два изображения Райской аллеи, и пять фотографий первого подземного уровня. На одной, вызывающей рой воспоминаний об ушедшей эпохе, группа посетителей в темных купальных костюмах без рукавов стоит, уперев руки в бока, в искусственном прибое перед крестообразными чугунными опорами подземного пирса с его остроконечной деревянной крышей, арками, башенками и реющими флагами. Одни мужчины смотрят в камеру дерзко и даже сурово, а другие, с мощными плечами и густыми усами, улыбаются легко, по-мальчишески, невинно – словно в гармонии с водой по колено, пирсом, океанским воздухом, невидимым праздничным парком.
ГОВОРИТ КАСПАР ХАУЗЕР
Дамы и господа, жители Нюрнберга. Высокие гости. С немалым изумлением стою я сегодня перед вами по случаю третьей годовщины моего прибытия к вам в город. Вспоминая грубую тварь, полуидиота, полускотину, что вдруг возникла на ваших улицах в тот день – неразборчиво бормоча – спотыкаясь – рыдая – ослепленную солнечным светом – согбенную и чахлую тварь – потерянную – невыразимо потерянную – тварь, которую с первых лет жизни заперли в темном склепе, – и затем думая о молодом господине в сюртуке и безупречном галстуке, что стоит сейчас перед вами, – должен признаться, я чувствую некое внутреннее головокружение. Точно я – не более чем греза, фантастическая греза – ваша греза, дамы и господа, жители Нюрнберга. Ибо каков бы ни был я, похороненный глубже мертвецов, я всегда помню, до какой степени я – ваше создание. Под терпеливым руководством профессора Даумера, коему я благодарен безмерно, меня вылепили в ваше подобие. Я есть вы – и вы – и вы – я, кто лишь несколько кратких лет назад валялся ниже скотины.
Разумеется, я понимаю, что мое развитие еще далеко не завершено. На этот счет я не питаю иллюзий. Входя в помещение, я прекрасно чувствую случайные взгляды изумления или жалости, не говоря о взглядах более тонких и более тлетворных – можно назвать их любезно подавленными изумлением или жалостью. Даже сейчас я, взрослый двадцатилетний мужчина, не умею естественно держать руки и ощущаю, как нелепо они свисают по бокам с немного растопыренными пальцами. У меня неуверенная походка. Это особенно видно, когда я оказываюсь в центре внимания: меня бросает в легкую качку, или же я словно падаю вперед и быстро переставляю ноги, пытаясь сохранить равновесие. Я также не способен в совершенстве управлять лицом – оно то и дело хмурится или изображает детское удивление. Даже слова мои не всегда появляются с плавностью, которой я добиваюсь, но вываливаются стремительным потоком или же неестественно медленно. Порой я оступаюсь и падаю в яму или колодец печали, глубокую яму, и падение в нее бесконечно; сами стены падают; и падая, никогда не достигая дна, ибо его нет, я гляжу вверх и высоко-высоко, в вечно отдаляющемся крошечном круге света, вижу лица, что глядят на меня с невообразимой вышины – это ваши лица, дамы и господа, жители Нюрнберга. Ибо хотя я сформирован по вашему подобию, я в то же время настолько ниже вас, что одна попытка взглянуть вам в лицо вызывает головокружение. Уж это ясно.
Тем не менее, невзирая на подобные пробелы в моем развитии, полагаю, что могу сказать: я прошел удивительно долгий путь. Безусловно, замечателен тот факт, что я способен прямо стоять здесь перед вами после того, как целую жизнь провел прикованным к земле. Но стоит ли напоминать вам мою и без того хорошо известную историю? Достаточно двух примеров. Помню случай вскоре после моего прибытия сюда – пока меня еще держали в замке, в башне Вестнер.
Однажды мой тюремщик, который был всегда со мною ласков, принес мне предмет, какого я раньше не видел. Какая-то палочка – я едва мог ее разглядеть, поскольку из-за своего невежества еще не умел ясно различать предметы; но на верхушке светилось что-то яркое – оно мне понравилось и поглотило все мое внимание. Тюремщик поставил палочку на стол. Возбужденный и восхищенный, я потянулся к ней. Палка меня укусила. Я испуганно вскрикнул и отдернул руку. На лице надзирателя я заметил тревогу – тревогу, напугавшую меня еще больше, чем опасная палка.
Что я сделал не так? Почему палочка на меня набросилась? Ах, палочка, палочка, дамы и господа, – вы же узнали палочку, правда? Что касается меня, то я не узнавал ничего, кроме ужаса и боли.
Перехожу ко второму случаю. Однажды ко мне в башню пришел незнакомый господин – это было незадолго до моего переезда в дом к профессору Даумеру. У герра фон Фейербаха был добрый, но испытующий взгляд; задав несколько вопросов, он отвел меня к тому месту в стене башни, куда я с безопасного расстояния любил смотреть на свет. Он, видимо, знал, как чувствительны мои глаза, и осторожно поставил меня сбоку от опасного места. Словами и жестами он дал понять, что я должен посмотреть вниз – на то, что лежало предо мною. Я подчинился.
Сейчас же тревога и ужасная тяжесть навалились на меня, и отвернувшись я закричал «Плохо!
Плохо!» – слово, которое недавно выучил. Мне показалось, что передо мной поставили оконный ставень, а на нем оказались уродливые кляксы краски – зеленые, желтые, белые, синие и красные.
Понимаете, я в то время не знал, как расстояние меняет предметы. На самом деле, я не имел представления об удаленных предметах; точнее, то, что я видел, возникало словно прямо перед глазами – ставень, обляпанный уродливой краской, заперший меня внутри.
Палочка и ставень, дамы и господа! Теперь вы понимаете? Я был юнец лет шестнадцати или семнадцати, на щеках начала пробиваться борода, и я понятия не имел о свечке, ни малейшего представления о пейзаже за окном. У меня была горстка слов, которым меня научили в башне – я использовал их по-своему, часто смущая и веселя посетителей. Поговорим о веселье посетителей?
Нет, полагаю, не стоит. И, разумеется, у меня имелись игрушечные лошадки, которых я украшал лентами и обрывками цветной бумаги. Я любил яркие блестящие предметы. Разговаривал с лошадками. Разговаривал с хлебом. Я был ребенок – нет, меньше чем ребенок, – едва ли больше жабы. Однажды меня в сопровождении двух полицейских взяли погулять в город. Внезапно ко мне направилась черная штука, трясущаяся черная штука. Меня стиснуло ужасом, я попытался бежать.
Лишь позже, гораздо позже им удалось мне втолковать, что видел я черную курицу.
Ибо, понимаете, даже тогда, в башне замка, в вышине над городом, я едва был человеком. И все же, если подумать о черной пустоте, что составляла предыдущую мою жизнь, мою еще более раннюю смерть, – башня кажется воплощением цивилизации. Но можете ли вы вообразить ее – ту, другую жизнь? Можете? Способны ли вы, дамы и господа, жители Нюрнберга, глубочайшим, искреннейшим, длительнейшим рывком воображения понять, что это такое – жизнь с ощущениями червя? Семнадцать лет обитать во тьме; не видеть света; ни единого лица; ни единого голоса; не в состоянии даже ощутить утрату подобного – способны? Я жил во тьме. Что-то мешало мне встать.
Я мог сидеть и немножко ползать. И возможно, в это единственное мгновение я могу утверждать, что имею преимущество перед вами – сомнительное и позорное преимущество, ибо, полагаю, я единственный из вас испытал такую жизнь. Семнадцать лет! Нет, слишком сложно. Даже я с трудом могу это вообразить. Человек, который ухаживал за мной, никогда не показывался. Оставлял хлеб и воду, когда я засыпал. Я всегда просыпался в темноте. На земле солома. Разумеется, мысль о жестокости тогда не приходила мне в голову. У меня была вода, хлеб и две маленькие лошадки.